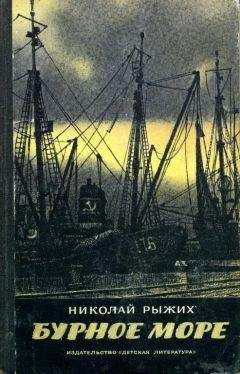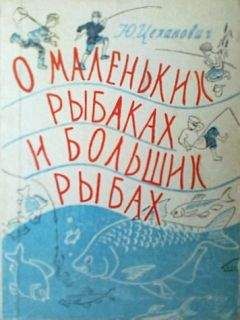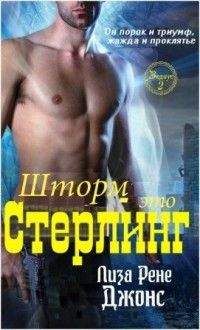— Нет, — скромно улыбаясь, сказал Макук, — это не пойдеть. Мне сто граммов водочки, старые кости согреть. — Он улыбался своей тихой, чуть-чуть наивной улыбкой. Держа стопку, подправлял сползающий рукав свитера.
— Ребята, ребята, потише, я что-то сказать хочу! — кричал Борис.
Его никто не слушал. За столом был полный аврал: двигали тарелки, разливали вино, гремели ложками. Васька, развалившись на стуле, уже тянул шампанское, отдуваясь. Говорили все сразу, суетились, смеялись.
— Ребята, ребята, Федор Егорович, голубчик, ну пожалуйста, скажи им, чтобы они потише, — просил Борис боцмана, — я что-то сказать хочу.
— Тише вы, узурпаторы! — прохрипел боцман; но на него никто не обратил внимания. Тогда он занес свою лапу над столом и уже собирался грохнуть по столу в знак водворения тишины, как Макук негромко сказал:
— Потише, ребята.
Шум оборвался. Пропал. Каждый замер в той позе, где застал его этот негромкий голос. Тишина. Только где-то на кухне звякнули посудой да скрипнула дверь.
— Ребята, ребята! — Голос Бориса дрожал. Лицо пылало. Как будто он хотел обнять весь мир или взлететь. — Ребята! Знаете, что, ребята? — продолжал он. — Я вас всех люблю!
Вдруг на углу стола послышался плач. Впрочем, это был не человеческий плач. Это было что-то среднее между скрипом и лаем. Какой-то ломающийся скрежет.
— Что с ним?
— Пьян?
— Хватил лишнего?
Плечи Андрея тряслись, лицо уткнулось в лежащие на столе локти. Стакан стоял нетронутым.
— Андрюха! Ты что это? Вот чудак! — встал боцман и потянулся к дергающимся плечам Андрея.
Макук взял боцмана за руку:
— Не тормоши человека, Егорович. Бывают случа́и.
Предательски закололо горло, туманятся глаза. Чтобы скрыть волнение, стискиваю челюсти, встаю из-за стола, подхожу к окну.
Из окна хорошо виден порт, причалы, наш «Онгудай». Нос «Онгудая» торчит над причалом, корма глубоко осела — ахтерпик, конечно, затоплен водой. Нос «Онгудая» смят и разворочен.
Сегодня утром, когда «СРТ-1054» возле Братьев брал нас на буксир, столкнулись. У 54-го такая же развороченная корма. В первый подход 54-й взял буксирный конец удачно, но в спешке мы не повесили на буксирный конец тяжести, не сделали провес. И когда оба судна оказались на гребнях волн, буксирный разлетелся, как нитка. Капитан 54-го пошел на второй заход. Но при подходе суда ударило друг о друга. Когда корма 54-го летела на нос «Онгудая», капитан 54-го стоял на крыле мостика и спокойно ждал. Матросы шарахнулись с кормы. У капитана смятая фуражка с большим козырьком. Он, мне кажется, даже глазом не моргнул, когда суда кинуло друг на друга...
Кто-то из ребят успокаивает Андрея, кто-то смеется, кто-то острит.
Нет, Андрюха, плакать не надо. Бороться надо. Бороться до конца.
У «Онгудая» левый борт совсем изуродован: леерные стойки погнуты, крыло мостика смято, брезент с него свисает побелевшими рваными клочьями. «Онгудай» похож на лихого задиру; кажется, вот-вот он выскочит на берег и схватится с кем угодно, хотя ему уже изрядно перепало.
Наш маяк стоит на скале, над морем — высоко-высоко... У нас ночуют туманы, трава совсем не камчатская: сухонькая, хиленькая — будто и не трава. Ветры такие, что двери не удержишь.
А под нами ну прямо другой мир: теплынь, солнышко, ароматы моря и цветов. Трава там до плеч, от цветов голова кругом идет, и заросли кедрача, рябины, пихты. Дичи само собой: в море нерпа, сивучи, лохтаки, кайры, топорки, бакланы, гагары — базар на прибрежных скалах; глубже в берег — медведи, зайчики, лисы, утки, гуси, снежные бараны в горах... Не знаю, есть ли где еще уголок на планете, где бы жизнь и природа так вольно, щедро и неуемно благоухала, как у нас тут, на восточном побережье Камчатки.
На маяке нас четверо: Роман, Толяша, Володька и я. Самый главный у нас Роман. И не потому что начальник наш, а уж очень необычный он. Кем он в жизни только не работал: слесарем, механиком, акробатом, продавцом, играл на трубе в военном оркестре. А когда десятилетним мальчишкой сбежал из детдома, два года кочевал с цыганским табором от Владивостока до Ясс. От этого куска жизни у него остался быстрый проницательный взгляд, нагловатая улыбка и любовь к гитаре.
В военном флоте Роман служил на подводной лодке. Служил много, лет восемь со сверхсрочной, и превыше всего он ценит флотский народ, сам носит тельняшку и мичманку. Но самое главное в нем — это, конечно, гитара. А как он поет, как он поет!
Мальчишка беспризорный,
Парнишка в доску свой,
Веселый и задорный,
С кудрявой головой.
Форсил татуировками,
Нырял в разрез волны
И длинною веревкою
Подвязывал штаны.
На маяке с ним была жена, месяц назад он отправил ее в Петропавловск, рожать.
Толик в прошлом геолог, точнее, радист-геолог. У нас он на должности инженера маяка. У него какие-то штормы в семейной жизни и, чтобы переждать их, забрался на маяк.
Я тоже забрел на маяк по нужде: работал на рыболовных судах, да два года назад вздумалось мне заняться науками, поступил в пединститут на заочное отделение; на сейнере или траулере не очень-то книжки полистаешь, третий год на первом курсе меня держать не собирались, и я, чтобы рассчитаться со всеми долгами, забрался вот на это «ласточкино гнездо».
Внизу, под нашими туманами и ветрами, вот там, где солнышко и цветы, пристроилась под сопочкой метеостанция. Обслуживают ее тоже четверо парней: Васька Степанов, Сашка, Митроха и Лев. И тоже — вот совпадение! — морские люди в прошлом.
Ох и славно мы жили! Или оттого, что на триста километров во все стороны ни одной души, или оттого, что все мы бывшие моряки, а может, просто мы замечательные ребята. Роман, вспоминая что-нибудь из своей бродячей жизни, не раз говорил:
— Точно такая же компания у нас на Диксоне была. Здорово тоже жили, просто как при коммунизме!
А ведь верно, коммунизм у нас: хлеб мы печем и не считаемся, из чьей он муки — нашей или метеорологов; шлюпка, которую Роман подобрал на берегу и отремонтировал, — общая; комфортабельный их душ — наш душ. А такие мелочи, как картошка, кинофильмы, табак, книжки, чай, сахар, мы уже забыли, где чье.
Километрах в тринадцати от нас бежит в море радостная речушка. Баранья называется. Бежит она по цветным камешкам быстро-быстро. Берега ее в задумчивых кустах ивы, по самому же берегу не продерешься. Но особенно живописна она в верховьях, в так называемых «ямах» — тихих запрудах после водопадов. В этих ямах живет форель и хариус. И рыбачить там интересно: сидишь на гранитном утесике под шапкой кустов, а под тобой прозрачное до рези в глазах горное озерцо, большущие рыбины, выскочив из стремнины, где они охотились, идут тихо, почти не шевелят плавниками; подводишь под нее крючок, и — раз! — затрепыхалась, заизвивалась золотистая рыбина, и в руках ее не удержишь, что значит горная.