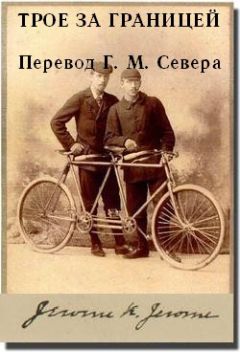— Ну ладно, — согласился учитель, — поганки там росли. А еще что? Что бывает в лесу под деревьями?
— Земля, сэр!
— Да нет, нет! Что в лесу под деревьями растет?
— Растет, сэр?.. Кусты, сэр?..
— Кусты! Превосходно. Идем дальше. В этом лесу росли кусты и деревья. А еще что?
Он вызвал малыша с первой парты, который, решив, что данный лес был слишком далеко, чтобы из-за него беспокоиться, проводил досуг за партией крестиков-ноликов сам с собой. Сбитый с толку и раздосадованный, но чувствуя, однако, необходимость пополнить каталог лесной флоры, он рискнул предложить ежевику. Это была ошибка: ежевики у поэта не было.
— У Клобстока, понятное дело, на уме только еда, — пояснил учитель, гордившийся своим остроумием. Клобстока осмеяли; учитель был счастлив.
— А ну, — продолжил он, вызывая мальчика в среднем ряду, — что еще было в этом лесу, кроме кустов и деревьев?
— Там был поток, сэр.
— В общем, да. А что поток делал?
— Журчал, сэр.
— Нет, нет! Журчат ручейки, а потоки...
— Ревут, сэр?
— Он ревел. А отчего он ревел?
Это был завальный вопрос. Один мальчик (умом, надо сказать, у нас не блиставший) предположил, что поток ревел от девушки. Чтобы как-то помочь нам, учитель изменил постановку вопроса:
— Когда он ревел?
Здесь третий мальчик поспешил на помощь опять, объяснив, что поток ревел когда падал на камни. (Кое-кому из нас, наверно, подумалось, что поток был просто сопляк — поднимать такой шум по такому ничтожному поводу. Более мужественный поток, как нам казалось, поднялся бы и потек себе дальше, и словом бы не обмолвился. Поток, который ревет всякий раз упав на камень, в наших глазах был малодушным потоком; но учитель, судя по всему, был доволен и этим.)
— А кто жил в этом лесу? С девушкой? — был следующий вопрос.
— Птички, сэр.
— Да, птички жили в этом лесу. А еще кто?
Птички, похоже, истощили нашу фантазию.
— Ну, ну, — напустился учитель, — что это за такие животные с хвостами, которые бегают по деревьям?
Мы задумались. Затем кто-то предложил котов.
Это была ошибка. Про котов у поэта ничего не упоминалось; учитель пытался добиться от нас белок.
Ничего особенного вспомнить про этот лес больше я не могу. Я только помню, что там еще появлялось небо. В таких местах, где между деревьями возникали просветы, посмотрев наверх, можно было увидеть небо. В этом небе очень часто бывали тучи, и время от времени, если я ничего не путаю, девушка намокала.
Я остановился на этом казусе потому, что он кажется мне характерным в смысле вопроса литературных описаний природы вообще. Я не мог понять тогда, я не могу понять сейчас — почему конспекта, данного первым учеником, было недостаточно. Со всем должным почтением к поэту (что за поэт — неважно), приходится только признать, что его лес был «лес как лес» и никаким другим быть не мог.
Теперь, наконец, я мог бы описать вам Шварцвальд. Я мог бы перевести Гебеля*, воспевшего Шварцвальд. На многих страницах я мог бы сообщать и сообщать о его скалистых теснинах и ярких долинах, о поросших соснами склонах, об увенчанных скалами пиках, о пенных потоках (там, где аккуратные немцы не обрекли их чинно струиться по деревянным желобам и водосточным трубам), о белых деревнях, об одиноких фермах.
Но меня преследует подозрение, что вы всё это пропустите. Если вы достаточно добросовестны (или слабохарактерны) и будете читать все подряд, я в конечном итоге смог бы донести до вас только образ, намного лучше сформулированный простыми словами непритязательного путеводителя:
«Живописный горный район, с юга и запада ограниченный долиной Рейна, в направлении которого круто спускаются отроги гор. Геологическая формация представляет главным образом различные породы песчаника и гранита. Подошвы массива покрыты обширными хвойными лесами. Район достаточно орошен многочисленными потоками. Густонаселенные долины плодородны и хорошо возделаны. Гостиницы отличаются высоким уровнем обслуживания, однако к дегустации местных вин иностранцу следует подходить с осторожностью».
Почему мы оказались в Ганновере. — Что за границей делают лучше. — Искусство беседы с иностранцем: как его преподают в английской школе. — Подлинная история, рассказывается впервые. — Французский юмор, в обработке на потеху британской молодежи. — Отеческие инстинкты Гарриса. — Поливальщик улиц как художник своего дела. — Патриотизм Джорджа. — Что Гаррис должен был сделать. — Что он сделал. — Мы спасаем Гаррису жизнь. — Город, в котором не спят. — Лошадь-критик.
Мы прибыли в Гамбург в пятницу; плавание было спокойным и без особенных происшествий. Из Гамбурга мы направились в Берлин — через Ганновер. Путь не самый прямой. Объяснить, что нас занесло в Ганновер, я могу только словами одного негра, который объяснял суду, как очутился в курятнике пастора.
— Ну?
— Да, сэр, полицейский не врет, сэр, я там был, сэр.
— Был-таки. И что ты там делал, скажи на милость, с мешком? В курятнике у пастора Абрахама — в двенадцать ночи?
— Так вот, сэр, как раз хотел рассказать, сэр. Отнес я масса Джордану мешок дынь. А масса Джордан, сэр, он добрый такой, значит, заходи, говорит.
— Ну и что?
— Да, сэр, да, очень уж масса Джордан добрый. Потом сидим мы, значит, болтаем-болтаем...
— Вполне возможно. Но нам надо знать, что ты делал в курятнике пастора.
— Так вот, сэр, я ж и хочу рассказать-то. Когда я от масса Джордана уходил, уже очень поздно было. Ну, Улисс, говорю себе, надо же было так постараться. Теперь-то старуха тебе точно перцу задаст. Язык у нее — не язык, сэр, сущее помело, просто...
— Да господь с ней. У нас в городе таких языков хватает, кроме твоей жены. Но от дома Джордана до дома пастора тебе крюк в полмили. Как же ты оказался у пастора?
— Так вот, сэр, я ж и хочу рассказать-то!
— Я рад. Ну и что ты расскажешь?
— Да видать заплутал, сэр, маленько.
Как я понял, мы заплутали маленько.
На первый взгляд, так или иначе, Ганновер кажется неинтересным городом, но потом захватывает. По сути дела, это не один, а два города. Город красивых широких современных улиц, устроенных со вкусом садов живет бок о бок с городом шестнадцатого столетия, где старые бревенчатые дома нависли над узкими переулками, где сквозь низкие подворотни можно заглянуть во дворики с галереями — где когда-то, без сомнения, толпились всадники или теснились громоздкие экипажи, запряженные шестерками лошадей, в ожидании богатого торговца-хозяина и его безмятежной дородной фрау, и где сейчас копошатся, как им заблагорассудится, только цыплята и дети, а над резным парапетом балконов сохнет выцветшее белье.