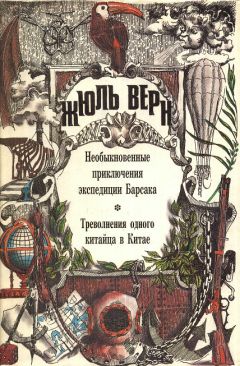— …сделался сенегальским стрелком? Ты мне это уже говорил, когда нанимался, но я не помню.
Мне кажется, мадемуазель Морна нечистосердечна. Тонгане отвечает:
— Это после дела Бакстона…
Бакстон? Это имя мне о чем-то говорит. Но о чем?
Продолжая слушать, я роюсь в памяти.
— Я служил в его отряде,— продолжает Тонгане,— когда пришли англичане и стали в нас стрелять.
— Знаешь ты, почему они стреляли? — спрашивает мадемуазель Морна.
— Потому что капитан Бакстон всех грабил и убивал.
— Это все верно?
— Очень верно. Жгли деревни. Убивали бедных негров, женщин, маленьких детей.
— И капитан Бакстон сам приказывал совершать все эти жестокости? — настаивает мадемуазель Морна изменившимся голосом.
— Нет, не сам,— отвечает Тонгане.— Его никогда не видали. Он больше не выходил из палатки после прихода другого белого. Этот белый давал нам приказы от имени капитана.
— Он долго был с вами, этот другой белый?
— Очень долго. Пять, шесть месяцев, может быть, больше.
— Где вы его встретили?
— В зарослях.
— И капитан Бакстон принял его?
— Они не расставались до того дня, когда капитан больше не вышел из своей палатки.
— И, без сомнения, все жестокости начались с этого дня?
Тонгане колеблется.
— Я не знаю,— признается он.
— А этот белый? — спрашивает мадемуазель Морна.— Ты помнишь его имя?
Шум снаружи покрывает голос Тонгане. Я не знаю, что он отвечает. В конце концов, мне безразлично. Это какая-то старая история, меня она не интересует.
Мадемуазель Морна спрашивает снова:
— И после того как англичане стреляли в вас, что с тобой случилось?
— Я вам говорил в Дакаре, где вы меня нанимали,— отвечает Тонгане.— Я и много других — мы очень испугались и убежали в заросли. Там были только мертвецы. Я похоронил своих друзей, а также начальника, капитана Бакстона.
Я слышу приглушенное восклицание.
— После этого,— продолжает Тонгане,— я бродил из деревни в деревню и достиг Нигера. Я поднялся по нему в украденной лодке и пришел наконец в Тимбукту, как раз тогда туда явились французы. На путешествие у меня ушло около пяти лет. В Тимбукту я нанялся стрелком, а когда меня освободили, отправился в Сенегал, где вы меня встретили.
После долгого молчания мадемуазель Морна спрашивает:
— Итак, капитан Бакстон умер?
— Да, госпожа.
— И ты его похоронил?
— Да, госпожа.
— Ты знаешь, где его могила?
Тонгане смеется.
— Конечно,— говорит он.— Я дойду до нее с закрытыми глазами.
Снова молчание, потом я слышу:
— Доброй ночи, Тонгане!
— Доброй ночи, госпожа! — отвечает негр, выходит из палатки и удаляется.
Я немедленно укладываюсь спать, но едва я затушил фонарь, как ко мне приходят воспоминания.
«Бакстон? Черт возьми, если я этого не знаю! Где была моя голова?! Какой восхитительный репортаж я тогда упустил».
В то уже довольно отдаленное время (прошу извинить личные воспоминания!) я работал в «Дидро» и предложил моему директору направить меня корреспондентом на место преступлений капитана-бандита. В продолжение нескольких месяцев он отказывал, боясь расходов. Что вы хотите? Ни у кого нет чувства важности событий. Когда же наконец он согласился, было слишком поздно. Я узнал в Бордо в момент посадки, что капитан Бакстон убит.
Но все это старая история, и если вы меня спросите, зачем я вам рассказал этот удивительный разговор Тонгане и его госпожи, то отвечу, что, по правде говоря, и сам не знаю.
Восьмого декабря снова нахожу в записной книжке имя Сен-Берена. Он неистощим, Сен-Берен! На сей раз это пустячок, но он нас очень позабавил. Пусть он и вас развеселит на несколько минут.
Мы ехали около двух часов во время утреннего перехода, когда Сен-Берен вдруг начал испускать нечленораздельные звуки и задергался в седле самым потешным образом. По привычке мы уже начали смеяться. Но Сен-Берен не смеялся. Он еле-еле сполз с лошади и поднес руку к той части туловища, на которой привык сидеть, а сам все дергался, непонятно почему.
К нему поспешили. Что случилось?
— Крючки!…— простонал Сен-Берен умирающим голосом.
Крючки?… Это не объяснило нам ничего. Только когда несчастный вернулся к жизни, нам открылся смысл этого восклицания.
Читатели, быть может, еще помнят, что в момент, когда мы покидали Конакри, Сен-Берен, призванный к порядку теткой,— или племянницей? — подбежал, поспешно засовывая горстями в карман купленные им крючки. Конечно, он потом про них и думать забыл. И эти самые крючки теперь отомстили за такое пренебрежение. Путем обходных маневров они переместились между седлом и всадником, и три из них прочно вцепились в кожу своего владельца.
Понадобилось вмешательство доктора Шатоннея, чтобы освободить Сен-Берена. Для этого достаточно было трех ударов ланцета, которые доктор не преминул сопроводить комментариями, прибавив при этом, что такая работа — одно удовольствие.
— Можно сказать, что вы «клевали»! — убежденно заметил он, исследуя результаты первой операции.
— Ой! — крикнул вместо ответа Сен-Берен, освобожденный от первого крючка.
— Хорошая была рыбалка! — пошутил доктор во второй раз.
— Ой! — снова взвизгнул Сен-Берен.
И наконец, после третьего раза, доктор поздравил:
— Вы можете гордиться своим уловом!
— Ой! — в последний раз простонал Сен-Берен.
Операция закончилась. Осталось перевязать раненого, который затем взгромоздился на лошадь и в продолжение двух дней принимал в седле самые причудливые позы.
Двенадцатого декабря мы все прибыли в Боронью. Боронья — маленькая деревушка, как и все прочие, но обладает преимуществом в лице исключительно любезного старшины. Этот юный старшина, всего лет семнадцати — восемнадцати, усиленно размахивал руками и раздавал удары кнутом любопытным, которые подходили к нам слишком близко. Он устремился к каравану с рукой у сердца и сделал нам тысячу уверений в дружбе, за что мы вознаградили его солью, порохом и двумя бритвами. При виде этих сокровищ он заплясал от радости.
В знак признательности он приказал построить за деревней шалаши, в которых мы могли бы лечь. Когда я вступил во владение своим, то увидел, что «нуну» усердно разравнивали и утаптывали почву, покрыв ее сухим коровьим навозом. Я поинтересовался, к чему такой роскошный ковер; они ответили, что это мешает белым червям выползать из земли. Я был благодарен за внимание и заплатил им горстью каури[36]. Они пришли в восторг.