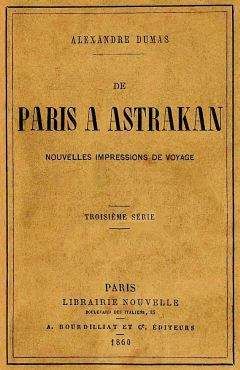Мийе открыл дверь черного хода и показал солдату обходную дорогу, по которой он смог бы попасть к своим товарищам. Солдат задержался ровно на столько, чтобы выпить стакан вина и перезарядить ружье, и ушел. Дверь снова была закрыта и заперта на засов.
Понятно внимание, с каким каждый в доме воспринимал подробности этой драмы; мы смотрели во все глаза, прислушивались ко всему. И вскоре услышали грохот тех же подков на мостовой: снова вскачь неслись наши голубые пруссачки. Но из города они вылетали еще быстрее, чем врывались в него. Гнали их наши гусары. Несмотря на то, что моя мать делала все, чтобы меня удержать, я подбежал к окну и увидел нечто возвышенное и жуткое, называемое рукопашной схваткой. Дрались грудь против груди на саблях и пистолетах. Пруссаки тщились опомниться и продержаться хотя бы миг, но натиск был слишком силен: их вынудили отступать и в бегстве снова нестись с той быстротой, на какую только способны их кони. Вся эта масса ударилась в бег, вытянулась, продолжая сражаться, и скрылась в грохоте и дыму за поворотом дороги, оставив лишь несколько тел, простертых на мостовой. Три из них были недвижны, в лужах крови; четвертое ползло к воротам нашего дома, наверняка для того, чтобы положить голову на порог и спокойно умереть на каменной подушке, вспоминая свою родину.
Это был молодой человек в голубом рединготе: следовательно, пруссак. Кровь обильно струилась из раны на лбу. Мийе и Фредерик бросились к калитке, открыли ее, и он потерял сознание у них на руках. Затем дверь, которая с одинаковым милосердием открывалась перед врагами и друзьями, закрылась за ними. Раненого молодого человека внесли в салон. В бою лицом к врагу, он получил сабельный удар, раскроивший ему лоб, и в результате ранения потерял много крови.
С этого момента раненого окружили всеобщим вниманием. Если победителями останутся французы, то нам вообще не надо будет ничего бояться; если ― пруссаки, то он станет нашей охранной грамотой. Только об этом и думали, дав ему приют; но, в конце концов, чтобы обстановка стала приемлемой, нужно принять ее такой, какая она есть. Женщины стали готовить корпию, два хирурга разорвали полотенца на бинты. Раненый все время находился без сознания; череп бы раскрыт, и опасались, не задет ли мозг.
Во время этих приготовлений мы услыхали сигнал к атаке, принятый во французской кавалерии; мимо наших ворот проскакали две-три роты вольтижеров, принимающих участие в бою. Вскоре раздалась ужасающая ружейная пальба: вне всякого сомнения, на городской окраине они встретили врага.
Раненый был перевязан по всем правилам военной хирургии. Перевязанный, он пришел в себя. Он очень слабо владел французским, но Мийе-старший хорошо говорил по-немецки, и таким образом раненый и хирург легко поняли друг друга.
Минутой позже сильно постучали. Мийе-старший пошел открыть. Хозяевами города стали пруссаки, и группа солдат заявилась потребовать крова и пищи. Прежде всего, Мийе проводил их к раненому, который был узнан офицером, и тот поставил у ворот часового с предписанием никого в дом не пускать. Стоит ли говорить, что как только часовой встал на посту, его проводили на кухню, где он нашел приготовленный для него обед.
Месяц спустя молодой пруссак покинул нас излеченным полностью, благодаря заботам матери и сына, сестер и брата. Заказал в нашу честь благодарственные молебны, оставил нам свое имя и адрес. Звали его Антон-Мария Фарина, и был он родом из Кельна. Это был племянник знаменитого Иоганна-Марии Фарины, первого дистиллятора в мире.
В 1833 году я посетил берега Рейна. Побывал в Кельне. Навел справки о нем. Антон-Мария Фарина бросил наносить и получать сабельные удары, заделался дистиллятором и торговал одеколоном [кельнской водой]. Я попросил показать мне его магазин. Вошел под предлогом купить флакончик из парфюмерных товаров. В магазине был только мальчик. Я послал его за хозяином. Патрон обедал. Хотя и отвлеченный от этого важного занятия, он появился с улыбкой на лице и предупредительным видом. Я взглянул на его лоб: шрам на месте. Конечно, это был он. Хозяин магазина заметил, что я разглядываю его с пристальным вниманием, и спросил, чем обязан такой чести. Тогда я спросил, не помнит ли он, где получил рану, шрам от которой носит на лбу. Он ответил, что во французском городе Крепи. Дальше я спросил, не помнит ли он семью, которая его подобрала. Он сказал, что это была семья Мийе. И еще раз я спросил, не помнит ли он мальчика 10-12 лет, который держал в руках кюветку, полную воды, окрашенной его кровью, когда он снова открыл глаза.
Он посмотрел на меня с любопытством.
― Не прошу, чтобы вы его узнали, ― сказал я со смехом, прошу, чтобы вы его вспомнили.
― Так это были вы? ― спросил он.
Я протянул ему обе руки и назвал одну-две детали, которые не оставляли ему и тени сомнения. Он бросился ко мне на шею и позвал всю семью ― жену и двух очаровательных дочек. В двух словах, по-немецки, они были введены в курс дела. Начались общие объятия. Меня потащили в столовую, усадили, стали пичкать зайчатиной с черносливом, телятиной с вареньем, анисовым хлебом и распечатали, чтобы оросить все это, бутылку самого лучшего иоганнесбергского вина, какое смогли найти в подвале. За столом провели весь день, вечером пили чай с вареньем разных видов. Расстались в час ночи. На памяти предков не было случая, чтобы в Кельне ложились спать так поздно.
Второе воспоминание более свежее.
В 1840 году я жил во Флоренции в прелестном доме на via Arondinelli (итал.) ― улице Ласточек, что мне уступил мой друг Купер, в то время атташе английского посольства, а теперь владелец кое-чего в Париже, что дает ему 600-800 тысяч ливров ренты, но всегда остроумный и отличный товарищ, good fellow (англ.) ― добрый малый, как говорит Шекспир, он такой же в Париже, каким был во Флоренции.
Однажды мне доложили о визите немецкого пастора. Немецкий пастор! Что нужно от меня немецкому пастору?
― Ладно, ― сказал я, ― впустите.
Я ожидал увидеть почтенного белобородого старца и приготовился просить его благословения, но ко мне проводили человека лет 30-ти: белокурого, розовощекого, упитанного, с улыбкой на лице и рукой, протянутой для рукопожатия. Я тоже улыбнулся и протянул ему руку.
― Чем могу вам служить? ― спросил я.
― В ваших силах помочь мне увидеть Рим, а я умираю от желания его увидеть, ― ответил он, ― и пусть я его не увижу, если вы не такой, каким я себе вас представляю.
― Как вы, я начинаю говорить, что надеюсь оказаться таким, каким меня вы себе представляете. Так каким же образом я помогу вам увидеть Рим?
― Позвольте поведать вам мою историю. Это не будет долго.