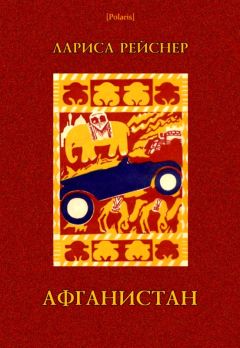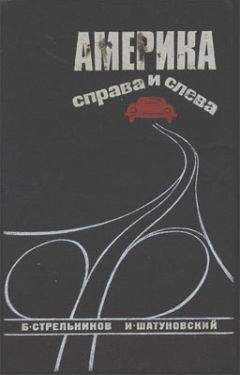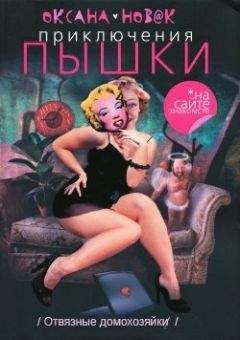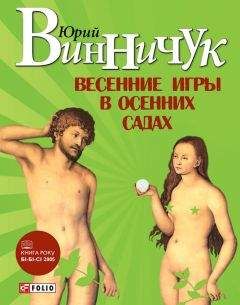Джелалабад, золотой, не знающий ни стужи, ни зноя, погруженный во влажное тепло, болотистый, благоуханный рассадник опиума и роз, останется высшим достижением той политики, которую англичане с таким блеском применяли и продолжают применять в Индии: политики мирного завоевания путем подкупа и развращения маленьких государей и прикармливающейся возле них безработной знати.
Сами сухие, подвижные, высушенные тропическим солнцем, покрытые пылью всех больших дорог мира и насквозь горькие от хины; по воскресеньям набожные, по будням бережливые и воздержанные, как скаредный англиканский молитвенник, британцы поставляют восточным дворам не только порнографические картинки, не только раздирающий внутренности джинджер и виски, более палящее, чем небо и лихорадки Индии, но и модную философию, легкое, играющее в бокалах гедонистическое мировоззрение. Эта новая религия раджей примиряет беззлобное отвращение буддизма к государству и закону с добродушным цинизмом модной оперетки; балет — со священными плясками, угар кутежей — с самозабвением аскетов, приводящим к одному и тому же: к беспамятству, к святому скотству, к умерщвлению плоти. Не все ли равно — путем аскезы или маразма.
И вот на палубах океанских пароходов принцессы Индии, сидя за маленькими столиками и допивая в одиночестве третью бутылку, покачиваются в такт безобразных фокстротов, немного стыдясь своей смуглой кожи, которая никак не хочет терять под пудрой своих янтарных и медных лепестков. Кто-нибудь из белых, кто-нибудь из касты господ, пьющих сода-виски, задрав ноги на голову поверженной Индии, отводит их в каюту, чтобы потом рассказать в клубе, куда не смеет войти ни один туземец, кроме лакея, о том, как индийская королева, Шехеразада, Дамаянти, напившись хуже извозчика, не теряет сознания, но продолжает болтать и смеяться на незнакомом языке, похожем на розовый говор фламинго.
И спаивая, накачивая гноем и грязью старые индусские семьи, облегчая им разрыв с религией и предрассудками, оплачивая из собственного кармана их грехи и садические подвиги, белые отгораживают себя от ими же растленной индийской аристократии стеной невыразимого презрения. Осыпанная золотом и брильянтами, одетая в перья и фантастические придворные мундиры, зараженная всеми скверными болезнями и всеми философскими эпидемиями, какие только Англия успела сфабриковать и доставить в колонию, чуждая народу и противная белым, эта каста, шатаясь, бредет от скандала к скандалу, от мерзости к мерзости, бережно поддерживаемая под руки двумя честными и трезвыми английскими полисменами.
В Афганистане эта политика растления сверху и усмирения снизу сорвалась в самом начале. Хабибулла был свергнут сыном, в белых дворцах Джелалабада население перебило тысячные, во всю стену, зеркала, и Англии, после тяжелой войны, пришлось начинать сначала. На этот раз совсем иными методами и приемами. Теперь посол Великобритании скромно занимает один из дворцов Джелалабада, построенных на деньги его правительства.
Но вернемся к теме.
Как сказано, из всех экзотик Афганистана нет ничего равного европейскому дипломатическому корпусу, самоотверженно разыгрывающему в пустыне комедию международных приличий. Над каждой хибарой, отведенной под иностранное представительство, вздымается непомерной величины национальное знамя. Не просто флаг, — но drapeau, banner, хоругвь, и не просто вздымается, но возносится, воспаряет. Всех пышнее, ленивее и небрежнее полощется по ветру знамя его величества короля ***. Посол, обитающий под сенью его священного древка, соединяет в своем лице свободомыслие человека, поношенного жизнью, но тщательно заглаженного, как безупречные складки его визитных панталон, с осторожной опытностью старого дипломата, состарившегося на самом скользком паркете, и притом в атмосфере монархии, смягченной периодическими парламентскими пассатами и муссонами.
Господин Ноаль, не владея ни единым метром земли за пределами фамильной усыпальницы, тем не менее, является крупным землевладельцем по убеждению и охотником по традиции. Таким образом, старинный герб и лояльность придворного счастливо соединены с насмешливым добродушием, уживчивостью и гибкостью барина, который много должал, платил проценты на проценты и привык с удивительной грацией отражать наглые приставания ростовщика, портного и этуали. Все это способствовало развитию дипломатических способностей, научило Ноаля ценить и уважать деньгу. Он снизошел к крупной буржуазии, заставляя ее платить за свою терпимость, доступность и демократическую снисходительность. Миллионерам, имеющим в своем гербе керосин и ветчину, синьку и автомобильную шину, эта философская широта милее всякого пресмыкательства. С другой стороны, нет ничего удобнее мудрой терпимости в наши тревожные времена. В самом деле, сегодня в правительстве эра просвещенных чиновников, беседующих с просителями о социализме и его достоинствах. Завтра — нечто вроде Муссолини, послезаввтра — кто знает? — запахнет коммунистами или клерикальной реакцией. Надо принять такую позу, такую защитную окраску, чтобы в случае стремительных перемен кабинета не ломать ни линии своего поведения, ни своих личных взглядов, которые Ноаль излагает с небрежной величавостью, заложив друг на друга породистые ступни в белых гамашах и несколько опереточно сдвинув на затылок необычайно безобразный модный цилиндр, широкий и приплюснутый.
Первое и основное правило такой политики, не зависящей ни от каких международных ситуаций, парящей, так сказать, в безвоздушном пространстве, — это жить в мире со всеми, ничего не отвергать, ничему не удивляться. И второе — не выражать своим поведением никакой принципиальной, последовательной точки зрения: ни государственной, ни общеевропейской. Для Ноаля дипломатический корпус — более или менее удачно составленное собрание хорошо воспитанных людей одного круга, заброшенных — увы! — в такую дыру, как Кабул, чтобы повеселиться и поскучать в обществе друг друга. Священная обязанность каждого из послов — честно разгонять сплин своих коллег и вовремя подавать реплики в высокой, тонкой, самоценной дипломатической игре, жесты и па которой установлены еще на Венском конгрессе. Совершенно неважно, разыгрывается ли дипломатический «театр для себя» на Гонолулу или в Афганистане, среди ньям-ньямов или папуасов.
Международный этикет существует сам по себе, не завися от времени и места. Раз на клочке священной экстерриториальной почвы, — будь то паркет, или глиняный круг, вытоптанный возле костра людоедов, — сошлись два авгура, два знатока пустопорожнего священнодействия, — они тотчас должны вступить друг с другом в официальные сношения: нанести визиты, сделать реверансы, отретироваться, назначить журфикс, забросить визитные карточки, сменить вестон на визитку, визитку на фрак и, поразив воображение туземцев неомраченной белизной бальной рубашки и девственной линией лондонских фалд, — утонуть, наконец, в просторной чистоте фланели, осененной колониальным шлемом. К сожалению, человек не сам себе выбирает родителей, а посол — своих товарищей по дипломатической пьесе. Мир после Версаля полон превратностей, и порядочным людям вдруг приходится сесть за один стол с самыми неожиданными личностями.