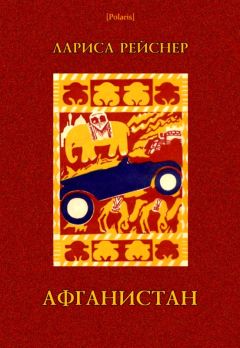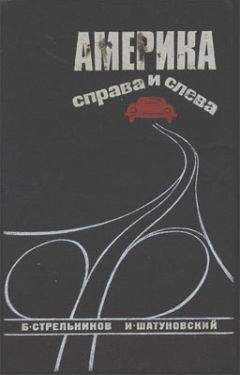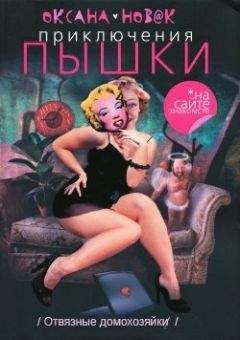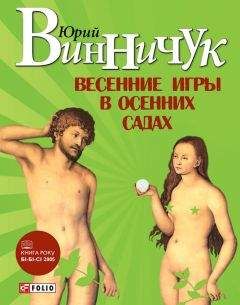В кругу придворных афганских дам с их жесткой грацией бумажных цветов, нанизанных на проволочные стебли, мадам Фурмье выглядит, как кусок теста, вышлепнутого на кухонный стол. Она не входит в гарем, но вползает на своем белом, сыром животе, улыбается поясницей, кланяется студенем. Старые дворцовые служанки хихикают; евнух стоит, раскрыв рот, загипнотизированный мощным перекатыванием этого жира, охваченного припадком необузданной лакейской преданности, спазмами верноподданнических чувств перед чужой деспотией.
Мать эмира, честолюбивая и умная женщина, видевшая членов своей семьи не только на праздничных портретах, писанных придворными малярами, но и с пулей в черепе, с опухшей, черной грудью, проколотой ножом, с удивленной брезгливостью смотрит на республиканскую даму, распластавшуюся перед ней так бескорыстно и свыше всякой меры.
Расчетливый Восток не понимает идейного холопства, восторга вольноотпущенника при виде ошейника и старой хозяйской плетки. Здесь только бедные и слабые должны унижаться, чтобы выжать из себя несколько мелких и сладких капелек пота лести. Сильные же жестокосердны, горды и независимы. Сморщив подрисованные брови, застыв в невыразимо-холодной вежливости, мать эмира потихоньку перебирает в уме не очень дорогие кольца, поношенные меха и состарившихся, но все еще видных лошадей, которыми можно было бы вознаградить эту назойливую преданность.
Тело Индии густо усажено белыми пиявками. Отчаянным движением ей время от времени удается оторвать от своих израненных боков отяжелевшую, сытую гроздь сосунов, но к месту отчаянного бунта по идеальным дорогам стекаются карательные отряды, броневые автомобили и артиллерия.
После обеда в клубах вальсируют, как всегда, и к хрипу и животному неистовству фокстротов примешивается шуршание воздушных флотилий, летящих к месту восстания. Танцующие улыбаются, улавливая над крышей белого, радостного дома полет этих орлиц, которые через час обрушат тысячи смертей на пылающие поселки пограничников. В течение еще недели колониальная пресса пишет о зверствах повстанцев, публикует портрет респектабельного, фланелево-белого, шлемистого плантатора, вырезанного со всей своей розовой и круглой семьей.
Потом «Пайонир» и «Инглишмэн» в иллюстрированном приложении дадут героев, отбивших одичалую от голода толпу от белой террасы земиндара, три дня просидевшего за баррикадой, сложенной из длинных, уступчивых, располагающих к послеобеденному отдыху, шезлонгов.
Потом техника починит все взорванные мосты и вывернутые телеграфные столбы; правосудие повесит виновных, которых не успели захватить и расстрелять у поврежденных насыпей и разграбленных почтамтов.
Затем вице-король со своей умной и сухой улыбкой старого еврея, знающего цену всему на свете, навесит дюжине аристократических дураков новенькие, как деньги, ордена.
Вице-королева, старая Роза из чулочного магазина в Уайт-Чепеле, еще раз упьется на старости лет царскими почестями своего сана. Дамы опустятся перед ней на одно колено почти до полу, а титулованные господа, как мальчишки, не смея шелохнуться или закурить папиросу, в ожидании станут у дверей этого вице-величества, помазанного в государи биржей и министерскими чиновниками. Здесь, в Индии, венценосцу ростовщиков и торговцев цветной человечины воздаются истинно-царские почести. С этикетом вице-королевского двора не сравняются никакие тонкости и строгости старых европейских монархий. Там вольность и простота, там величество окружено роями светлостей и сиятельств, которые его считают только первым среди равных и часто пожимают плечами насчет чистоты крови и древности царствующего дома. В Индии же феодальная знать, такая избалованная на родине, наполнившая «хроники» Шекспира своей надменной вольностью, окружает вице-короля Индии азиатскими почестями, громоздкими и унизительными для себя церемониями. Наравне с цветными она демонстрирует свою полную зависимость от короля милостью банков.
В Дели капитал священнодействует в благоговейной тишине, окруженный кольцом коленопреклоненных царедворцев, старейших и почтеннейших представителей армии, высокородных леди, чуть не до полу склонивших свой породистый пробор. Никто не смеет шевельнуться, кашлянуть, переступить с ноги на ногу. Все замерло в почтительной, священной тишине; как будто слышно затрудненное дыхание Полипа, вонзившего свой могучий хобот в сердце Индии; кажется, видно, как по трепещущим, раздутым венам течет живая влага, все еще плодоносными приливами истекающая из ее старых ран. Хлопают последние выстрелы карательных экспедиций. Вице-королева улыбается млечному пути брильянтов, мерцающих у ее кривых, плебейских ног, и «святой» Ганди из своей тюрьмы кричит народу о непротивлении злу.
В промежутках между чисто английскими колониями паразитов ютятся представители менее победоносных торговых держав. Путаясь под ногами победителей, подбирая крохи, устремляясь ко всякому клочку белой индийской кожи, случайно мелькнувшему из-под тучи обсевших и жрущих ее клещей, перебиваются итальянские, немецкие и другие европейские негоцианты. Особенно эти последние. Бедность делает их предприимчивыми, а громкие титулы придают коммивояжерской наглости вид аристократической непринужденности. В самой Индии эти господа едва ли могли рассчитывать на успех. Но неожиданно для них открылось новое поле действий: страшный Афганистан, которого так боятся их друзья-англичане.
Захватив фраки и пару шелкового белья, они чуть не вприпрыжку перешли заветную границу, провожаемые сумрачным и завистливым взглядом пограничного чиновника, день и ночь охраняющего эту проклятую пустыню, съевшую столько английского золота и костей.
В Джелалабаде оба, граф и командор, «король шелковичных червей», были великолепны на фоне пустынь, голых гор и величавого безразличия, с которым Восток позволяет всякому прохожему вскарабкиваться и перелезать через свою холодную, давно уснувшую каменную грудь.
Знатные путешественники, едва окинув страну небрежным взором, прониклись невыразимым к ней презрением. Никакой наживы, ничего готового. Ни слоновой кости, которую у дикарей надлежит выменивать на водку; ни рубинов и ковров в обмен на ржавые бритвы, стеклянные бусы и красный коленкор.
Аппетиты скользнули по голым скалам Афганистана, по крупному лицу эмира, и везде сорвались, везде поскользнулись и осеклись. Взвинченные десятидневным целомудрием (ибо в этой варварской стране даже туземки не продаются), оскорбленные бедностью полей, которым нужны вонючие удобрения и тяжеловесные машины; шокированные мелочной робостью белобородых купцов, пробующих каждую монету на зуб и моментально загрязнивших и расщипавших по нитке нарядные образчики, молодые люди собрались в обратный путь.