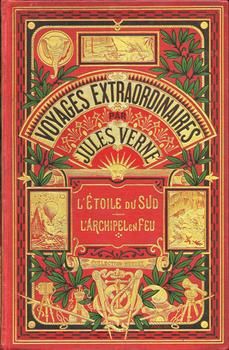Мокрый и озябший, он кое-как улегся, положив голову на большой камень, и заснул тяжелым сном. Когда Сиприен проснулся, он был в горячке.
Смутно сознавая, что он погибнет, если будет далее выдерживать этот непрерывный холодный душ, не делая попытки избавиться от него, Сиприен с усилием встал и, опираясь на палку, стал спускаться с горы. Как он сошел вниз — он сам затруднился бы ответить на этот вопрос. Он то катился с мокрых откосов, то сползал на четвереньках с почти отвесных скал и наконец, весь избитый, запыхавшийся и изнуренный горячкой, приплелся к тому месту, где оставил жирафа; но того уже не было: жираф, соскучившись, вероятно, в одиночестве или же побуждаемый голодом, так как вся трава на большом расстоянии от того места, где он стоял, была ощипана, перегрыз веревку, которой он был привязан, и освободился.
Сиприен, быть может, сильнее почувствовал бы этот новый удар судьбы, если бы был в нормальном состоянии, но он был так болен, что почти не сознавал того, что происходило вокруг него. Единственное, что ему пришло в голову сделать, — это переодеться в сухое платье. После этого он повалился как сноп на кожаный мешок в тени большого баобаба и впал в тяжелое состояние полусна, в котором пред его умственным взором проносились картины всего пережитого и перевиденного за время путешествия по Трансваалю. К утру дождь перестал, и солнце уже высоко стояло на небе, когда Сиприен открыл глаза. Он увидел перед собой большого страуса, который сначала остановился от него в нескольких шагах, но через минуту подошел к нему.
«Может быть, это страус Матакита?» — смутно пронеслось в уме Сиприена.
Но страус ответил ему на этот вопрос, заговорив с ним на чистом французском языке.
— Я не ошибаюсь?.. Это Сиприен Мере?.. Что с тобой, мой бедный друг? Что ты делаешь здесь?
Страус, говорящий по-французски, страус, знающий, как его зовут! Здесь было, конечно, чему удивляться человеку обыкновенному, находящемуся в здравом рассудке. Но Сиприен не был нисколько удивлен этим феноменом и даже нашел его вполне натуральным. Во время своего ночного бреда он видел гораздо более необыкновенные вещи: ему показалось это продолжением бреда.
— Вы очень невежливы, господин страус! — ответил он. — По какому праву вы говорите мне «ты»?
Голос Сиприена был глух и прерывист, как у всех горячечных, и уже по одному этому можно было безошибочно судить о том, что Сиприен болен.
Это обстоятельство до крайности взволновало страуса.
— Сиприен… друг мой! Ты болен и один здесь, в этом диком лесу! — воскликнул он, бросаясь перед ним на колени.
Это было также совершенно ненормальным физиологическим явлением: страусу, как известно, запрещено природой преклонять колени. Но Сиприен ничему не удивлялся. Он нашел даже вполне естественным то, что страус вынул из-под своего левого крыла кожаную бутылку с водой, смешанной с коньяком, и приложил горлышко к его губам. Одно только показалось ему странным, — это то, что птица поднялась с колен и сбросила с себя на землю сначала нечто вроде кожи, покрытой перьями, а потом длинную шею с птичьей головой. Освободившееся от этого одеяния существо оказалось высокого роста мужчиной, который был не кем иным, как Фарамоном Берте, величайшим охотником перед Богом и людьми.
— Ведь это я! Разве ты не узнал меня по голосу? Ты удивлен моим маскарадом? Это военная хитрость, которую я заимствовал у кафров и которую они применяют, когда охотятся за настоящими страусами!.. Но поговорим лучше о тебе, мой бедный друг!.. Каким образом очутился ты здесь один и больной? Ведь я увидел тебя благодаря совершенно невероятной случайности, я даже не подозревал, что ты в этой стране!
Сиприен был настолько болен, что ему было трудно говорить; поэтому он в нескольких словах дал своему другу требуемые им объяснения.
Фарамон Берте, впрочем, и не настаивал на большем и поспешил оказать больному помощь, в которой тот так нуждался; опыт, приобретенный в путешествиях по диким странам, оказал ему немалую услугу: он выучился у кафров лечению болотной лихорадки, которой и был болен его несчастный друг. Фарамон Берте начал с того, что вырыл большую яму и наложил в нее дров, оставив в ней только небольшое отверстие для воздуха. Когда дрова сгорели, яма обратилась в настоящую печь; Фарамон Берте положил в нее Сиприена, обернув его предварительно одеялом и оставив снаружи голову. Не прошло и десяти минут, как инженер покрылся сильнейшей испариной, которую самодельный доктор старался поддержать, давая больному горячий отвар из известных ему целебных трав.
Сиприен вскоре заснул благодатным сном. К вечеру он проснулся и почувствовал себя настолько хорошо, что попросил есть. Заботливый и находчивый друг и тут знал, как угодить ему: пока больной спал, Фарамон Берте успел сварить ему крепкий и очень вкусный бульон из нежной дичи и разных кореньев; к этому кушанью Фарамон Берте присоединил крылышко жареной дрофы и чашку воды с коньяком; всего этого было вполне достаточно, чтобы Сиприен почувствовал, что силы восстановились и лихорадка оставила его.
Час спустя Фарамон Берте, который также пообедал очень сытно, уселся рядом с Сиприеном и стал ему рассказывать, как очутился здесь один, без своих провожатых кафров-бассутов, которых всюду брал с собой.
Придя со своими тридцатью бассутами во владения великого негра Тонаи, знаменитый охотник был гостеприимно принят им, но чтобы получить право охотиться в его владениях, Фарамону Берте пришлось уступить Тонаи своих бассутов, у четырех из которых были ружья, для участия в военных действиях, начатых им против соседей. Эти четыре ружья сделали Тонаи непобедимым среди других кафрских племен, и в благодарность за оказанную ему Фарамоном Берте услугу великий Тонаи поклялся ему в вечной дружбе. Покровительство великого правителя сделало пребывание Фарамона Берте в этой стране вполне безопасным, а потому он продолжал охотиться один.
— Но для чего это ты вырядился страусом? — спросил своего друга Сиприен Мере.
— Я тебе уже говорил, что кафры употребляют эту хитрость, чтобы подойти к страусам, не возбудив в них подозрений; птицы эти очень осторожны и чутки, и охотнику приблизиться к ним очень трудно…
Сиприен в то время уже лежал под большими баобабами на мягкой подстилке из сухих листьев. Но друг Сиприена и этим не удовольствовался: он отправился в соседнюю долину за палаткой, оставленной им там на всякий случай, и не более как через четверть часа палатка была раскинута над больным Сиприеном.
— Ну а теперь, если тебя это не утомит, расскажи мне о своих приключениях, — сказал Фарамон Берте молодому инженеру.