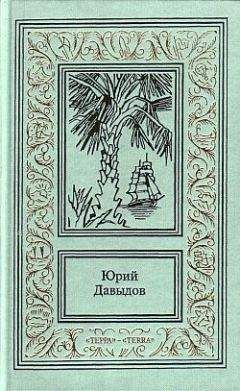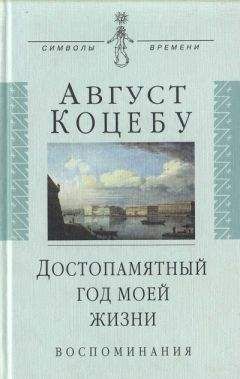– Не я хочу, вождь. Ты хочешь.
Франклин поморщился: дикарь не слишком-то церемонится с офицером королевского флота, не упускает случая щелкнуть по носу и напомнить, кто от кого тут зависит.
– Ну хорошо, хорошо… Жду совета, друг мой Акайчо.
– На берегу озера белые поставят хижину. Когда Дорога Солнца снова станет длинной, они пойдут к Большой Соленой Воде.
– Благодарю. Но скажи, Акайчо, не ты ли обещался привести нас к истокам реки, что течет в Большую Соленую Воду?
– Мое слово, вождь, верно, как и твое. Но я не знал, что белые так медлительны.
«Медлительны»? Черт побери, индейцы шли налегке, а вояжеры и путешественники тащили всю поклажу.
– Да, я не знал, что твои люди так медлительны и так скоро устают, – продолжал Акайчо. – Ответь: надо ль упорствовать в том, что противно разуму?
«Шельма! Он еще учит, что разумно, что неразумно…»
Акайчо выпускал через ноздри длинный табачный дым.
– Ты опечален, начальник? Не надо печалиться. Ты увидишь Большую Соленую Воду, ты увидишь друзей.
Опустив голову, Джон палкой ворошил костер. Искры взметывались, как зверьки, хищно и весело. Он долго молчал. «Ты увидишь своих друзей». Ха, Уильям Парри, должно быть, давно уж на своем корабле у берегов Канады. Согласно инструкции, рандеву где-то близ устья Коппермайн. Так задумано Мелвиллем и Барроу. Инструкция скреплена королевской печатью. Э… как это у Шекспира? «Ревущим волнам нет дела до королей…»
– Надо зимовать, – сказал Акайчо. – Но если ты пойдешь, я не покину тебя. Мне будет стыдно, коли ты и твои братья погибнут на земле моих предков.
Как сотрясались сосны и ели, как они брызгали белой пеною, как роняли вязкие слезы! А потом медленно кренились, словно мачты погибающих кораблей, и с треском, ломая ветви, рушились наземь, подминая кустарник.
На миг воцарялась погребальная тишина. С печальным шорохом сыпались иглы. И вот опять стучали топоры, но уже не размеренно и не звонко, а тупо и коротко – по ветвям, по ветвям, по сучкам, по сучкам. И вот лежало поверженное дерево, покорное, нагое, с еще мелко дрожащей вершинкой, а комель как бы дымился дымком уходящей жизни.
Бревна волокли на поляну. Там, у Зимнего озера, протесывали наскоро, без тщания. Хижина. Еще хижина. Амбар. Возникало селеньице.
Зима навалилась сразу, со свирепой силою. За ночь озеро сковало льдом, ручей онемел, а ветер свистнул, как стальной прут.
Акайчо держал слово. Его охотники били оленей, его рыбаки таскали добычу из темных прорубей. Высоко над огнем, в холодном дыму, индианки коптили рыбу. Но у Зимнего озера остановились не только англичане-путешественники и не только проводники-канадцы, но и многодетные семьи охотников. Ртов было много, боеприпасов мало. К тому же – и этого уж вовсе не предвидели флотские – недоставало топоров: с жалобным звоном ломались они о закаменевшие поленья. А костры требовали уйму дров.
Все дальше, все дальше забредали охотники Акайчо. Сперва пропадали дня на два, потом на неделю, а после и вовсе сгинули.
Низко нависло небо, снег валил не переставая, и все жиже была похлебка. Голод тишком заглядывал в хижины.
Мичман Роберт вызвался первым. Ей-богу, до смерти прискучило сидеть да слушать вьюгу! Он пойдет за подмогой в форт Провиденс, к этому толсторожему Гарри Блейку.
Франклин вздохнул:
– Нет, дорогой Роберт…
Он не пускался в объяснения. Как скажешь мичману, тут нужен человек постарше, поопытнее: известно, мичманское самолюбие…
– И не вы, доктор. У вас, боюсь, начинается цинга. Что? Вам лучше знать? Нет, нет…
А штурман Бек сказал:
– Все отменно хорошо, сэр. Полагаю, за месяц-полтора.
Ах, славный малый, Джордж Бек. Посмотришь – не то поэт, не то музыкант. И манеры такие, точно с колыбели тебя пичкали наставлениями лорда Честерфильда[19].
– До весны я вернусь, – сказал Джордж Бек. И усмехнулся: – Уж как хотите, без меня вам не удрать к Ледовитому океану.
Хепберн встал:
– Прошу, сэр…
– Э, нет, Хепберн, – возразил Бек. – Оставайтесь-ка. С меня довольно двух-трех вояжеров. – Он опять усмехнулся. – Как они поют? «В пути повстречал я трех всадников…»
Прощаясь, Франклин сказал:
– Джордж, прошу, будьте благоразумны. Слышите, старина? В Провиденс отдохните хорошенько.
– Ладно, – ответил штурман. И пошутил: – Но я буду здесь до того, как откроется театральный сезон.
Минул месяц, минул другой. Рождество стояло у ворот, а ни от штурмана Бека, ни от индейцев Акайчо известий не было. Амбар почти опустел, пороху и пуль в обрез, рыба, как назло, не шла. Пробавлялись остатками оленины.
Доктор Ричардсон, бодрости ради, пускался в рассуждения о пользе «легкого голодания». За эту теорию, уверял доктор, ему когда-нибудь присудят в Кембридже почетную степень.
– Видите ли, господа, – объяснял хирург, – чем обильнее пища, тем изнеженнее пищеварительный тракт. Желудок работает, как каторжник, мускулы его переутомляются, подобно всем иным мускулам нашего, то есть человеческого, господа, организма. И, как свидетельствуют вскрытия, богачи, предающиеся излишествам, чаще всего умирают именно от переутомления желудков…
– Так уж и от этого самого, доктор? – Матрос Хепберн недоверчиво покачивал головою, не замечая улыбок Франклина и Худа.
– Друг мой, – серьезно отвечал Ричардсон, – когда вам доведется вскрывать трупы…
Хепберн скривился и замахал руками.
– Полноте, – не выдержал Франклин. – Будет вам пугать Хепберна. И ваше красноречие все равно не отобьет нашего аппетита.
– Как угодно, господа, как угодно, – с комическим огорчением соглашался Ричардсон. – Мое дело предупредить: поменьше еды, побольше диеты. Ну-с, хорошо! Коль скоро я живу под одной крышей с такими обжорами, не угодно ли поговорить о другом. О чем? Ну-с… Хотя бы вот о чем… А не пожелает ли уважаемый Хепберн рассказать… Что бы вы хотели рассказать, мистер Хепберн?
Матрос смущался. Ричардсон грозил ему пальцем:
– Те-те-те, знаем мы вас, милейший!
– Да что вы это, сэр? – совсем уж терялся матрос.
– А вот то, господа, вот послушайте. Помните «Принца Уэльского»? Я там… по чистой случайности разумеется… Я там видел и слышал, как наш дорогой Хепберн изображал офицеров, у которых прежде служил. Потеха! Матросы гоготали, как в цирке Астли.
– Ох, доктор, – сконфузился матрос.
Но Ричардсон не отставал:
– А когда мы вернемся в Англию, он станет изображать вас, лейтенант Франклин. Ей-богу, помяните мое слово.
Тут уж Хепберн вскочил и выбежал в сени. Лейтенант и мичман рассмеялись. А неугомонный доктор без передышки прицепился к Роберту Худу.
Роберт частенько выхвалял «петушью яму», буйные нравы мичманской артели. Доктор же Ричардсон усматривал в обычаях «петушьих ям» лишь дикость и грубость, и ему очень хотелось убедить в этом мистера Худа. По сему поводу завязывались у них диспуты: Франклин в душе соглашался с Ричардсоном, но понимал и горячность Худа.