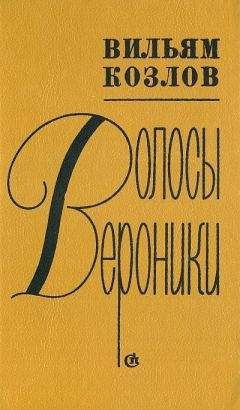Хорошо, — подхватил я, — все это я, пожалуй, могу сказать, прибавив кое-что насчет великого старого Дайзенбергера, — того простого душой, любвеобильного «отца долины», который в настоящее время мирно покоится среди своей любимой паствы. Это он, как тебе, вероятно, известно, переделал на более возвышенный, облагороженный тон прежний грубоватый склад мистерий. В его обработке виденная нами с тобою вчера драма производит несравненно более глубокое впечатление… Вот пред нами на стене его портрет. Какое простое, открытое, привлекательно-доброе лицо! Как приятно и отрадно видеть хоть по временам такое доброе лицо. Я говорю не о тех искусственно выделанных из мрамора или нарисованных на цветных стеклах «святых» лицах, а о настоящем, непридуманном добром человеческом лице, испещренном следами всех перенесенных им житейских бурь и гроз — в прямом и переносном смыслах, — лице, которое настолько подымалось вверх, чтобы созерцать звезды на небесах, сколько склонялось долу, чтобы озарять сердечным теплом и светом своего страдающего под гнетом судьбы собрата.
— Конечно, можешь прибавить и это, — согласился Б. — В этом нет ничего дурного. А затем можешь описать само представление и те впечатления, которые оно произвело на тебя. И не бойся, что твои заметки об игре могут казаться пошлыми, как ты еще вчера мне высказал. Если бы они даже и вышли пошлыми, то тем лучше: с большим интересом будут прочитаны.
— Ну, если я дам описание здешних представлений, то едва ли кто захочет прочесть его, — возразил я. — Ведь нынче каждому ученику сельской школы известно и без меня, что представляют собою обер-аммергауские мистерии.
— Ну так что же? — невозмутимо произнес Б. — Ты пиши не для ученых школьников, а для их невежественных родственников, не учившихся в школе. Эти простые люди будут очень рады узнать что-нибудь, помимо своих ученых детей, и похвалиться этим пред ними. Это позволит старикам чувствовать себя не ниже зазнавшейся своею «ученостью» мелюзги. Разве ты не находишь, что стоит потрудиться для бедных, простосердечных старичков, имевших дерзость выучиться грамоте вне школьных стен и за это презираемых своими же детьми-подростками, проходящих курс той или иной школы?
— Да, пожалуй, стоит, — ответил я в раздумье. — Но как это сделать? Во всяком случае, слишком долго и утомительно давать подробный отчет о восемнадцати действиях и явлениях драмы Страстей Господних. По-моему, ее следует сократить, тем более, что только одна треть ее действительно полна захватывающего интереса и трогательности, а другие две трети являются просто скучным балластом. Читатель прежде всего требует от драмы, чтобы она была интересна, поучительна и возвышенна; а все это я нахожу только в одной трети…
— Совершенно верно, мой друг, — перебил меня Б. — Но не следует забывать, что драма, о которой идет у нас речь, имеет цель не литературную, а религиозную. Поэтому нужно критиковать ее поделикатнее. Сказать, что некоторые ее части неинтересны — все равно, что признать две трети Библии совершенно излишними и что, мол, ее нужно бы сократить на две трети. Но ведь это, сам согласись, по меньшей мере неудобно.
Я задумался, и у нас наступило продолжительное молчание.
— Может быть, ты имеешь что-либо возразить с религиозной точки зрения против представления на сцене евангельской драмы? — спросил Б., прерывая мою задумчивость.
— Нет! — горячо произнес я, встрепенувшись, — я ровно ничего не имею возразить против этого и думаю, что этого не сделает ни один настоящий христианин. Воображать, что христианство нечто такое, чего миряне не смеют и касаться, значит совершенно превратно понимать основу этого учения. Ведь Христос сам сорвал храмовую занавесь и вывел скрывавшуюся за этой занавесью религию на улицы и рынки мира.
Видя, что Б. ничего не возражает, я продолжал:
— Христос был человек простой, живший простой жизнью среди простых людей. Он и умер среди таких людей. Его способы поучать были также самые простые.
Корни христианства внедрены очень глубоко в почву человеческой жизни среди всего простого, обыденного, будничного. Вся сила этого великого учения заключается именно в простоте и жизненности, т. е. в том, что оно отвечает на простые запросы жизни. Оно распространилось почти по всему миру благодаря тому, что более говорит сердцам людей, чем их головам. Его дальнейшему существованию и распространению нужно именно то, чтобы оно демонстрировалось такими простыми, непосредственными людьми, как здешние лицедеи, а не было бы предметом мертвой церковной догматики или академических споров.
Та огромная толпа, которая вчера вместе с нами смотрела драму Христа, видела его несравненно яснее на этой примитивной сцене, чем знает его по книгам, хотя бы «вдохновенным». С этой сцены он был вполне близок и понятен зрителям, видевшим его полное терпения лицо и слышавшим его глубокий голос, взывавший к ним. Они видели его в час его так называемого триумфального «входа во Иерусалим», когда он, смиренно восседая на смиренной ослице, двигался по узким улицам этого священного города, среди теснившейся вокруг него многочисленной толпы, обвивавшей его зелеными ветвями пальм и потрясавшей окрестность кликами «осанна!».
Представляю себе эту толпу. Но едва ли она была так многочисленна, как мы привыкли думать, и так восторженно настроена. Иерусалим был город, с головой ушедший в самые материальные заботы, и его население было вовсе не таково, чтобы можно было заставить его бросить свои занятия ради зрелища, которое не могло доставить иерусалимцам никакой материальной выгоды.
Просто-напросто Христос ехал по улицам, которые и всегда были полны разным мелким людом, спешившим по своим делам. Может быть, часть этих бедняков и в самом деле кричала что-нибудь при виде человека на ослице, как всякая уличная толпа, всегда готовая покричать, когда можно. Насчет праздничных одежд и пальмовых ветвей я также сильно сомневаюсь… Но пусть все это и было так. Во всяком случае, странно видеть в одной этой сцене высший триумф того галилейского плотника (тогда ведь еще не знали кто он), из-за которого вот уже целых восемнадцать столетий весь мир так много думает, рассуждает и бьется, но которого и теперь мало кто понимает.
Будем лучше говорить лишь о вчерашних зрителях. Они видели Христа, с негодованием и гневом выгоняющего из храма торгашей; видели, как после этого та же самая толпа, которая только что так восторженно его чествовала, от него и присоединилась к его врагам.
Они видели первосвященников, тайно ночью собравшихся вместе с фарисеями и книжниками, близ сводчатых палат синедриона, чтобы обсудить план убийства Христа. Это было собрание ученого цвета страны.