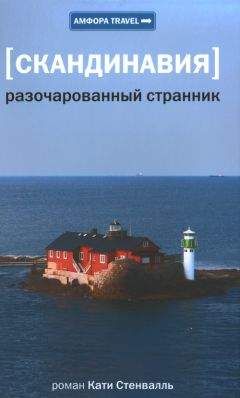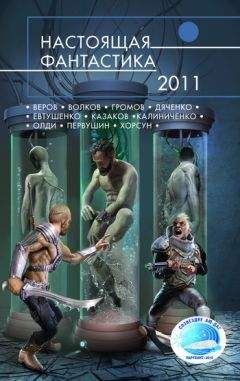— Не открывайте эту дверь! Не надо туда ходить! Что вы здесь делаете? Когда вы уйдёте? Вы кто? Никогда и ни за что не открывайте эту дверь!
Очень, очень неприятный дом. И главное, работа оказалась такой сложной, тяжёлой и муторной. Старухи всё время мёрзли. У них батареи работали на полную катушку, горел огонь в камине, и электрические обогреватели были включены. Сказать, что в доме было нечем дышать, значит не сказать ничего. Окна вообще были заколочены гвоздями и не открывались. Я чуть не умерла без воздуха. Мне и в автобусах-то плохо, а в такой душегубке и подавно! Время от времени на меня накатывала паника, что я могу потерять сознание от духоты. К тому же уборка квартиры сродни спорту: всё время двигаешься, поднимаешь тяжести, карабкаешься по стремянке, нагибаешься и разгибаешься. Убираться в жаркой комнате всё равно что тренироваться в сауне. Кое-как я умудрилась открыть одну форточку в дальней комнате, но это почти не помогло. Однако старуха сразу же почувствовала и закричала: «Что такое? В доме просто собачий холод! Откуда этот ледяной сквозняк?»
Замучились мы так, что хоть на носилках выноси, В основном от жары, духоты, вонищи и этих ведьм в креслах. Еле вырвались оттуда. Одеваемся в прихожей, а бабка (которая самая старая) говорит: «А что, серебро вы чистить не будете? Я вот сейчас позвоню вашему начальнику!» Я думаю: не позвонишь, не вспомнишь, как телефонную трубку снимать.
Мы вылетели на улицу, глотнули свежего воздуха и побежали к трамваю. А бабка грозит клюкой и кричит с крыльца: «Разбойники! Чего вам здесь надо было? Обокрасть нас хотели? Полиция! На помощь!»
Если бы я снимала кино, я бы сделала так, что уборщицы убегают, а старуха следом несётся в ступе. Они бросают расчёску, вырастает лес, а баба-яга его железными зубами перегрызает. Тогда они кидают зеркальце, и разливается озеро…
У меня было такое сумасшедшее состояние, я бы с удовольствием выпила коньяку.
На самом деле они, конечно, не ведьмы, а просто выжившие из ума одинокие пожилые женщины. Никто не хочет у них убирать. Послали меня, как самую социально незащищённую и бессловесную, меня это жутко взбесило. Теперь я имею удовольствие видеть этих сов каждую вторую неделю. От них все отказались, а я вот не могу. Подумала, попробую сходить к ним сегодня, а потом откажусь, если будет совсем плохо.
Первый раз они из своих кресел вздыхали и стенали, всё время мне говорили ерунду нечленораздельную, просили то одно, то другое. Спрашивали, кто я, что здесь делаю, когда начну чистить серебро, буду ли с ними жить, собираюсь ли я их сегодня купать и пойдём ли мы на прогулку. Насчёт прогулки они меня достали, пришлось их вывести погулять во дворе, хоть это и не входит в мои обязанности. Мы медленно сделали круг вдоль забора, я вела бабку за руку, а она еле переставляла ноги и ругалась на чём свет стоит. Её дочка, замотанная в несколько платков, так что наружу торчали одни глаза, брела за нами и ныла, что ей страшно и что за кустами кто-то прячется. Старуха опиралась на мою руку и грозила кулаком:
— Голодранцы! Все ждут, когда я сдохну! И ты тоже, красавица! А я всё равно ничего никому не оставлю! Я этот дом спалю! Я его уже трижды поджигала! Подонки! Я — внучка герцога Франзелиуса! Мне сам король присылает поздравления с Новым годом! Свиньи! Все в аду гореть будете! Я вот твоему начальнику скажу, что ты у меня серебряные ложки украла!
Старухе вторила её дочка-привидение:
— О-о-о-о-ох, у-у-у-у-у — когда мы пойдём домой? Ну зачем мы вышли на улицу? Здесь так холодно… так сыро… так страшно… Вон там кто-то есть, там, за кустами, вон он там сидит, вон он на меня смотрит, о-о-о-о-о-ох… он такой большой и чёрный, как туча, лица не видно, у него восемь рук, а ноги как куриные лапы… пошли отсюда скорей, а то он нас всех заберёт, он меня увидел, уже поздно, теперь мы от него не уйдём…
Так вот мы и шли, а соседи смотрели на нас из-за балконной двери. Мы сделали круг и вернулись в их обморочное жилище. Я оттуда так бежала, что забыла шарф. Было холодно, но я не стала возвращаться, лишь бы их не видеть.
Что вы думаете? Через два дня начальница отдала мне пропажу и сказала, что старухи выбрались из дома, проехали через весь город, нашли нашу контору и ВЕРНУЛИ мой шарф!!! Бабка еле ворочала языком, никак не могла объяснить, что ей надо и к кому она пришла. А сумасшедшая вообще стояла и таращилась без слов. В конторе их явление произвело фурор. Никто своим глазам не мог поверить, мы-то думали, что старухи почти не двигаются. Это было самое большое их приключение за последние много лет. Бабка сказала, что они не выходили за ворота с девяносто первого года.
Честно, я была тронута. И в следующий раз, когда пришла убирать «Ведьмин дом», уже не могла относиться к ним по-прежнему.
Март 2005 года
Вова, который ел
Когда я работала уборщицей, у нас среди персонала был один очень подозрительный мужчина из Белоруссии. По-шведски или английски он не говорил. Его звали Вова. Нет, даже так: ВОВА. Ему было лет тридцать пять — сорок, бритый налысо, в серой заношенной застиранной одежде. Очень худой, измождённый, несчастный и какой-то весь убогий. Выглядел он, как будто только что отсидел срок (а может, это так и было?). Почему он решил стать уборщицей, не понятно. Но всё-таки он работал, убирал, и дела у него как-то шли помаленьку.
Вова был знаменит тем, что он всё время ел. Не прерывался ни на минуту. Если у нас было собрание в конторе, он сразу же садился рядом, прихватив поднос с булочками, и начинал есть. Он давился этими вчерашними засохшими булочками, запихивая их в рот одну за другой, жевал и с трудом глотал, тут же засовывая в рот следующую булочку Почему-то он никогда не запивал их кофе. Наверное, без кофе больше влезало булочек, не хотел зря занимать в животе место. За булочками следовало печенье, потом яблоки, потом всё, что ещё оставалось на столе. Если его о чём-то спрашивали, он пытался поскорее проглотить и сказать что-нибудь нечленораздельное, вроде: «угу-угу».
Вова был у нас притчей во языцех. Все рассказывали друг другу, как он ест. Про него ходили легенды. Как, например, он однажды съел бутерброд вместе с целлофановой упаковкой. Или как он сжевал кожуру от апельсина, оставленную кем-то на столе. Не знаю уж, в чём там было дело. Был ли Вова диабетиком и поэтому всё время хотел есть? Голодал ли он в Белоруссии? Вырос ли он в детском доме? Угрожала ли ему голодная смерть?
Если до начала собрания (и поедания булочек) нужно было посидеть и подождать, он начинал есть всё, что можно. На стойке, за которой работает секретарша, обычно стоит вазочка с мятными карамельками, годами стоит, никто эту дрянь не берёт, всё уже слиплось в один бесформенный ком. Для Вовы это как раз годилось. Одну за другой он запихивал карамельки за щёку. Хрустел ими, потом шуровал в вазочке и отправлял в рот всё, что осталось. Крошки, осколки конфет, всякий мусор. Мы давились от смеха, но он не замечал.