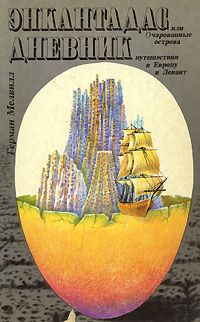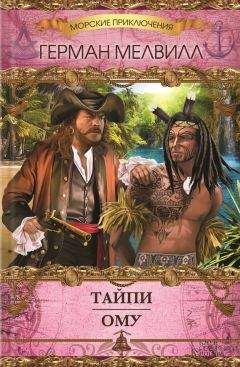Если иметь в виду личную храбрость, искусство кораблевождения и врожденную способность подавлять все проявления мятежного духа, то на свете не существовало более подходящего для своей профессии человека, чем Джон Джермин. Он поистине мог считаться образцовым представителем породы энергичных низкорослых коренастых людей. Серо-стальные волосы завивались колечками на его шарообразной голове. Лицо с резкими чертами было сильно изрыто оспой. Слегка косивший глаз придавал ему выражение свирепости, нос залихватски изогнулся на сторону, а большой рот и крупные белые зубы, когда Джермин смеялся, в точности напоминали акульи. Одним словом, никто, присмотревшись к старшему помощнику, никогда не вздумал бы исправить форму его носа, хотя тому и недоставало симметрии. Впрочем, несмотря на драчливую внешность, сердце у Джермина было большое и душа широкая; это заметно было с первого взгляда.
Таков был наш старший помощник; но он обладал одним недостатком: питал отвращение ко всяким слабым настойкам и являлся мужественным приверженцем крепких напитков. В той или иной степени он всегда находился под их действием. По совести говоря, я думаю, что такому человеку умеренное употребление спирта приносило пользу; он придавал блеск глазам, сметал паутину с мозгов, регулировал пульс. Хуже то, что иногда Джермин выпивал слишком много, и редко можно было встретить парня более буйного во хмелю. Он всегда лез в драку; но даже те, кого он лупил, любили его, как брата: он сбивал человека с ног с таким подкупающим добродушием, что никто не мог затаить против него злобу. Но хватит об отважном маленьком Джермине.
По закону все английские китобойные суда обязаны иметь врача, который, конечно, считается джентльменом, живет в каюте и призван выполнять лишь свои профессиональные обязанности; впрочем, иногда он пьет «флип»[9] и играет в карты с капитаном. На борту «Джулии» тоже находился один такой тип, но… — странное явление — он жил в кубрике с матросами. Вот как это получилось.
В начале плавания доктор и капитан жили вместе и ладили между собой как нельзя лучше. Не говоря уже о множестве кружек, выпитых ими за столиком в каюте, оба они прочли порядочно книг, а один из них совершил немало путешествий; поэтому темы их бесед никогда не истощались. Но однажды они заспорили о политике; доктор, придя в ярость, для вящего убеждения пустил в ход кулаки и поверг капитана на пол, тем самым заставив его умолкнуть. Это было большой дерзостью, и доктора на десять суток засадили в его служебную каюту на хлеб и воду, предоставив поразмыслить на досуге о том, сколь недопустимо поддаваться страстям. Мучительно переживая нанесенное ему бесчестье, он вскоре после освобождения попытался тайком сбежать с судна на один из островов, но был с позором водворен обратно и снова посажен под замок. После того как его вторично освободили, он поклялся, что больше не будет жить с капитаном, и, захватив все свое имущество, переселился на бак к матросам, которые его приняли с распростертыми объятиями, как славного малого и незаслуженно оскорбленного человека.
Я должен сообщить о докторе еще некоторые подробности, ибо он играет видную роль в моем повествовании. Ранние годы его жизни, как у многих других героев, окутаны глубочайшим мраком; иногда, впрочем, он бросал намеки о родовом поместье, о дяде-богаче и о несчастном стечении обстоятельств, заставивших его пуститься бродить по свету. Твердо известно было лишь следующее. Он уехал в Сидней младшим врачом эмигрантского судна. По прибытии туда он отправился в глубь страны и после нескольких месяцев скитаний вернулся в Сидней без гроша и поступил врачом на «Джулию».
Он обладал замечательной наружностью. Ростом в шесть с лишним футов, он был костлявым верзилой с абсолютно лишенным красок лицом, светлыми волосами и дерзкими светло-серыми глазами, подчас сверкавшими дьявольским озорством. Матросы называли его Долговязый доктор, или, еще чаще, доктор Долговязый Дух. С каких бы высот ни скатился доктор Долговязый Дух, одно было несомненно: когда-то он тратил много денег, пил бургундское и вращался среди джентльменов.
Что касается его образованности, то он цитировал Вергилия, толковал о Гоббсе из Малмсбери,[10] а уж сколько стихов он знал наизусть, целые строфы из поэмы «Гудибрас».[11] К тому же он был человеком, повидавшим свет. Он мог самым непринужденным образом упомянуть о своих любовных похождениях в Палермо, об утренней охоте на львов в стране кафров и о качествах кофе, которое пил в Маскате;[12] обо всех этих местах и о сотне других он знал столько историй, что я не в состоянии их пересказать. А эти восхитительные старинные песни, распеваемые сочным бархатным голосом, звучавшим столь неподражаемо! Как могли подобные звуки исходить из его тощего тела, оставалось вечной загадкой. В общем Долговязый Дух был в высшей степени занимательным собеседником; а для меня на «Джулии» он оказался настоящей находкой.
Глава 3
Дальнейшее описание «Джулии»
Из-за отсутствия чего-либо похожего на нормальную дисциплину на судне царил величайший беспорядок. Капитана, вследствие болезни с некоторого времени почти не покидавшего своей каюты, видели редко. Однако старший помощник проявлял энергию молодого льва и носился по палубам, давая о себе знать в любое время. Бембо, новозеландец-гарпунщик, мало с кем общался, кроме старшего помощника, свободно говорившего на его тарабарском языке. Часть времени Бембо проводил на бушприте, ловя на костяной крючок тунцов; а иногда среди ночи он будил всю команду, в одиночестве отплясывая на баке какой-то танец людоедов. Но в общем он был на редкость спокойным человеком, хотя что-то в его взгляде давало основание считать его далеко не безобидным.
Доктор Долговязый Дух, вручив письменное заявление об отказе от должности судового врача, объявил себя пассажиром, следующим в Сидней, и ко всему относился совершенно беззаботно. Что касается команды, то те, кто был болен, казались изумительно довольными для людей в их положении, а остальным и горя было мало, что на судне царит всеобщая распущенность, и никто не думал о завтрашнем дне.
Провизия на «Джулии» была отвратительна. Когда открывали бочку со свининой, мясо имело такой вид, словно его сохраняли в ржавчине, и от него воняло, как от протухшего рагу. Говядина была еще хуже: волокнистая масса цвета красного дерева, такая жесткая и безвкусная, что я почти поверил рассказу кока о том, как в одной бочке из рассола выловили лошадиное копыто вместе с подковой. Немногим лучше были и сухари; почти все они раскрошились на мелкие, твердые, как кремень, кусочки, сплошь источенные — словно черви, обычно заводящиеся в этом продукте питания во время продолжительных плаваний в тропиках, пробуравив отверстие в поисках пищи для себя, вылезли с противоположной стороны, ничего не обнаружив.