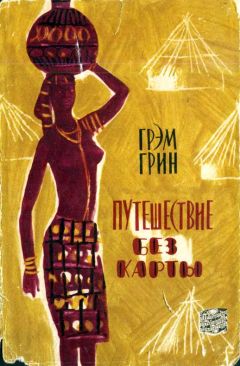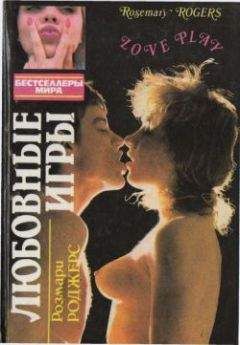Не удивительно, что все чувства притуплялись и мы испытывали лишь невыразимую скуку. Наверно, и в этом лесу была своя красота, но глаз давно перестал воспринимать прекрасное. Он больше не замечал ни огромных, хвостатых, как ласточки, бабочек, которые тучами поднимались у наших ног на берегах ручьев, ни черных муравьев, впивавшихся в тело.
Может быть, либерийские дебри своей мертвенностью отличаются от других лесов Африки; многие путешественники, побывавшие в других частях континента, жалуются на шум и жестокую борьбу за существование, царящие там в лесах. Человек может сродниться почти со всем, что живет вокруг него, перенести на любое живое существо свое чувство нежности, тоски по родине, жалости, так, что зачастую об этих чувствах острее всего ему напоминает природа. Очертания цветущей изгороди где-нибудь в Центральной Англии, ковер из опавшей листвы где-нибудь в лесу — как часто человеку кажется, что все это пробуждает в нем чувство, которое кто-то здесь уже испытал до него. Но никто никогда не испытывал в этом лесу никаких человеческих чувств. Словно остов недостроенного дома на брошенном участке, он так и остался необитаемым.
В эти дни меня странно пленяли стихи А. Э. Хаусмена:
Не говори, я знаю сам,
О чем волшебница играет,
Когда сентябрьский косят луг
И белый цвет летает в мае.
Мы с ней знакомы так давно.
Я все ее повадки знаю[39].
Они казались мне чередой сладких звуков на незнакомом языке и напоминали, как не похожа эта природа на ту, что я знал прежде. Я хранил это стихотворение про запас на то время, когда мне уже совсем не о чем было думать, и тогда медленно повторял его себе, прикидывая одновременно, прошел ли я сто метров между первой и последней строкой, или нет.
Стихотворение потеряло всякий смысл: разве можно помышлять здесь о природе, как о волшебнице, по которой тоскует душа? Это было бы таким же безумием, как лелеять засохший цветок в горшке.
И, покрытая тенью,
Колоннада лесов
Зашепчет и станет моею[40].
— писал Хаусмен, чувствуя вместе с Уордсвортом и другими английскими бардами природы, что она нечто одушевленное, чем можно обладать, как обладаешь другом или возлюбленной. Однако здешний лес никогда никому не принадлежал. Пожалуй, я был неправ, называя его мертвым, ведь он никогда не был живым.
В воздухе пахнет дождем
Вождь из Галая был нашим проводником на пути от плоскогорья обратно в лес, он нарядился для этого случая в черный фрак и зеленый берет; сзади шел один из телохранителей и нес его меч. В большой деревне Пала нам сказали, что следующий поселок называется Бамоу и до него еще далеко, мы никак не доберемся туда раньше шести, а вышли мы в семь часов утра. Остановиться на ночлег до Бамоу было негде. Люди наши стали ворчать, как только мы вошли в Палу, и я понял, что мне предстоит выслушать немало сердитых жалоб. Но останавливаться в Пале не хотелось (это надолго бы задержало наш приход в Ганту), поэтому я не стал дожидаться остальных — собравшись все вместе, носильщики непременно заявили бы протест — и двинулся дальше, взяв с собой проводника, людей, которые несли мой гамак, и Амеду.
Мы шли больше трех часов, не встречая на пути ни единой деревушки, а тропа была настолько широкой, что солнце безнаказанно жгло нас вовсю; для того чтобы пообедать в тени, пришлось мечами расчистить лужайку. Но в деревушке, которая нам попалась по дороге, я, к своему облегчению, узнал, что до большого поселка не больше полутора часов. Вождь деревни был очень приветлив, вынес моим носильщикам фляги с пальмовым вином, и я не сразу заметил, что он не подал мне руки. Только тогда, когда я сам протянул ему руку и он нехотя ее взял, я заметил, что рука его покрыта белыми язвами. Может быть, это и не была проказа, и в любом случае проказа совсем не так уж заразна, но я все же целый день ничего не мог взять в рот.
Я так и не узнал названия того поселка, куда мы, наконец, попали. Это не мог быть Бамоу, потому что мы, по всей видимости, сбились с пути. Здесь тоже был заезжий двор за тесной оградой сразу же за поселком. Сердитый и неприветливый вождь не позволил сварить еду носильщикам и не дал им заночевать в деревне. Он заявил, что с ними хлопот не оберешься. Я купил у него рис по самой дорогой цене, какую мне приходилось платить, и он ушел от нас со своим советником и небольшой свитой недовольных старейшин.
В воздухе пахло грозой. Носильщики чувствовали ее приближение, лежа на веранде. Я сидел и прислушивался к обрывкам их разговора, но как раз перед закатом, когда гроза, наконец, разразилась, крики и звуки рожков заставили всех нас подбежать к изгороди. Из деревни к нашей хижине двигалась целая процессия. Ее возглавлял какой-то человек со старым охотничьим ружьем за спиной, позади двигался крытый гамак, который несли четверо носильщиков, по сторонам бежали слуги, один из них дудел в рожок. Я подумал, что это по меньшей мере французский комиссар, и надеялся, что он не вздумает проверять мои бумаги — ведь у меня не было визы, разрешавшей мне транзит через французскую колонию. Но из гамака вышел и зашагал к воротам отнюдь не французский комиссар. Это был негр с крупными завитками волос на голове и черными бакенбардами; в руке он держал стек, по пятам за ним бежала собака. На нем был старый тропический шлем, пестрый шотландский джемпер, бриджи с помочами и поясом, гетры и узкие белые лайковые сапожки. Он стоял, помахивая стеком и разглядывая нас, словно диковинных зверей в клетке, с вызывающим высокомерием. Кто-то объяснил, что это вождь из Джиеке — следующего поселка по дороге в Ганту. Он не говорил ни по-английски, ни по-французски, но когда я спросил его через Ама, далеко ли до Джиеке, и объяснил, что хочу попасть туда на следующий день, в ответ я, конечно, услышал: «Слишком далеко». Это мало было похоже на правду: солнце уже село, и сам он вряд ли собирался ночевать в лесу. Насмотревшись на нас досыта, он прошествовал к своему гамаку и под пение рожка был унесен назад в лесную чащу.
Вскоре после наступления темноты разразилась сильная буря: молния так и сверкала, освещая все вокруг. Носильщики спали на полу веранды. Их дыхание и храп помогли нам избежать чувства одиночества в эту грохотавшую электрическими разрядами ночь и отпугивали крыс. Буря меня тревожила. Сезон дождей должен был начаться только через месяц, но иногда он наступал раньше срока. Плохи будут наши дела, если дожди застигнут нас в глубине страны: в низине за Гантой дороги в этот сезон непроходимы; вся центральная Либерия превращается в сплошное болото, а мы еще и не думали сворачивать на юг.