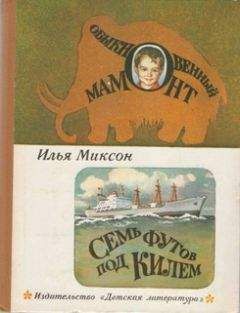– Лучше бы, конечно, от бешеной коровки, да сухой закон, – посочувствовала она. – Пей и закройся хорошенько, меду там две столовых ложки, пропотеешь.
– Федя меня и так в пот вогнал.
– Чего он к тебе шляется? – с недовольством спросила Любовь Григорьевна. – Напрасно его балуешь, на весь мир расхвалил. Пустоцвет он и шатун, я его от девочек отвадила, так он, сопляк, ко мне стучится! Филю бы не испортил, Филя у нас образцово-показательный, – она мечтательно улыбнулась, тряхнула серьгами. – Эх, была бы я лет на пятнадцать помоложе… Ты, Паша, укройся получше, есть долгий разговор.
Она села, глубоко вздохнула и беспокойно на меня посмотрела.
– Что-то на душе муторно, сон видела нехороший, – сказала она, покусывая губы. – Ну, это тебе не интересно – бабий сон, а если у меня предчувствие? Слух, Паша, по пароходу идет, будто Алексей наступил вашему Корсакову на хвост и оттого будут большие неприятности. Есть в этом правда или нет? Ты смелее говори, что ко мне попало, то пропало.
Я рассказал, что знал Любовь Григорьевна слушала, кивала.
– Быть неприятностям, – решила она. – Сожрет он Алексея, как сливу, и косточку выплюнет.
– А не подавится?
Она покачала головой.
– Если б Алеша добро так умел наживать, как врагов… Покачнется – много охотников отыщется, чтоб подтолкнуть буксир подметать или бумаги скалывать…
– Дипломат он неважный, – сказал я. – Мог бы преспокойно закончить экспедицию, распрощаться с Корсаковым и набирать лед в свое удовольствие.
– Какой он дипломат! – разволновалась Любовь Григорьевна. – Моряк он. Ты говоришь – закончить, распрощаться… Так бы оно и было, если б не «Байкал». Я-то знаю, от «Байкала» он обезумел, вспомнил, зачем в экспедицию вышел – стыдно стало людям в глаза смотреть, вот и потерял осторожность. А этому артисту, – она повысила голос, – тоже стыдно, а почему? До того доухаживался, что с битой мордой ходит – ручка у Зинаиды тяжелая, по сто ведер девка на скотном дворе таскала! Вот ему и приспичило домой, здесь он ноль без палочки, а там большой человек, ко всякому начальству вхож… – Она вдруг взглянула на меня с наивной надеждой, с жаром проговорила: – Примири их, Паша, придумай что-нибудь!
Подбородок ее задрожал, глаза вспыхнули, она схватила мою руку, крепко, по-мужски сжала.
– Забудь, что Алеша тебя обижал, придумай! Подольстись, пообещай артисту, что напишешь о нем хорошо, с портретом… Ну а если ему невтерпеж, намекни, пусть ко мне придет, сволочь такая!
В дверь постучали.
– Я потом еще молочка принесу, – отпуская мою руку, заторопилась уходить Любовь Григорьевна. – Как пропотеешь, смени рубашку, а сырую брось, я постираю. В дверях стоял Корсаков.
Голова у меня шла кругом, меньше всего на свете я ожидал этого визита.
– Заболели? – участливо спросил Корсаков. – Никита за машинку уселся, протоколы перепечатывает, вот я и сбежал.
– Вы словно оправдываетесь, что впервые зашли в гости, – по возможности приветливее сказал я. – Располагайтесь, пожалуйста.
– Тесновато у вас, – присаживаясь и оглядывая каюту, сказал Корсаков. – А в том, что я навязал свое общество, виноваты сами, поскольку перестали уделять мне внимание, хотя, о чем я имел удовольствие говорить, вы мне симпатичны.
Я невольно улыбнулся.
– Мой главный тут же, не сходя с места, здорово бы вас отредактировал. Не огорчайтесь: он у самого Толстого половину «что» и «который» повычеркивал бы.
– «Что такое телеграфный столб? Отредактированная елка!» – засмеялся Корсаков. – Не беда, всех нас редактируют. Так уж сложена жизнь, что каждый, достигший определенного уровня, подгоняет других под свой стиль: вас – редактор, меня – Чернышев. Начальство всегда право, потому что у него – сила.
– Посмотрим, будете ли вы это говорить, когда станете директором института.
– Вполне возможно, что не буду, – охотно согласился Корсаков. – Отношение к жизни определяется ступенькой, на которой стоишь, и степенью удовлетворения, которое от своего положения получаешь.
– Убежден, что вы пока что не удовлетворены, – сказал я и, памятуя наказ Любови Григорьевны, подхалимски добавил: – Но мне почему-то кажется, что пройдет немного времени – и к своему положению вы не будете иметь никаких претензий.
– Ошибаетесь, – весело возразил Корсаков. – Постоянная неудовлетворенность – движущий стимул, Паша, как только человек становится полностью и всем доволен, его нужно немедленно освобождать от занимаемой должности.
Так, я для Корсакова стал Пашей, большая, можно сказать, огромная честь. К чему это? Ба, уж не выпил ли он?
– Не беспокойтесь, самую малость, – уловив мой взгляд, признался он. – Но все равно капитан мог бы лишить меня премиальных, если бы это от него зависело. К величайшему сожалению, от него зависят другие, неизмеримо более важные вещи. Не стану лукавить, именно об этом я хочу с вами поговорить. Если, конечно, я вас не утомил.
– Нисколько.
Корсаков уселся поудобнее, закурил и задумался. Я молча смотрел на него, предчувствуя тяжелый разговор и гадая, что творится на душе этого до сих пор непонятного мне человека. Верный своей привычке, он был щегольски одет, чисто выбрит и подтянут, властность и уверенность в себе его не покинули, но нечто появилось на его лице постороннее… Припухлость на щеке? Да, и с синевой, Зина, видимо, приложилась не очень деликатно… Нет, не в этом дело, а в общем, что ли, выражении, какое бывает у человека, когда ему не дает покоя подспудная мысль. А ведь таким я Корсакова уже видел! Сработала память: когда Чернышев известил нас, что перевернулся японский траулер, потом на разборе, когда нас положило на борт, и совсем недавно – в плавную качку…
Это было лицо волевого, превосходно умеющего держать себя в руках, но очень взволнованного человека. Взволнованного – это как минимум: может быть, вернее было бы сказать – напуганного.
– Помните нашу беседу в начале плавания, которую Чернышев довольно-таки бесцеремонно нарушил? – наконец спросил он.
– Помню.
– Мы тогда, кажется, сошлись во мнениях. Ну, груб он – бог с ним, недостаток не самый крупный, да и не располагает рыбацкая работа к изящной словесности; куда губительнее его стремление самоутверждаться за счет других. Я предположил это полтора месяца назад и, увы, не ошибся. Вы поймите, Паша, дороги у нас слишком разные, и делить с ним мне нечего, и если я вновь заговорил об этом, то лишь потому, что вы, я, все мы оказались во власти одержимого маньяка!
Одержимого! – гася окурок и тут же вытаскивая новую сигарету, с силой повторил он. – Я не новичок в науке и знаю цену собранному нами материалу. Ее не измеришь никаким прейскурантом! То, что мы сделали, поможет десяткам судов спастись от обледенения – поверьте, это не гадание на кофейной гуще, это осознанный научный факт. Нам оставалось лишь в спокойной обстановке еще раз проанализировать данные и выработать четкие рекомендации. Но Чернышева это решительно не устроило. Как по-вашему, почему?