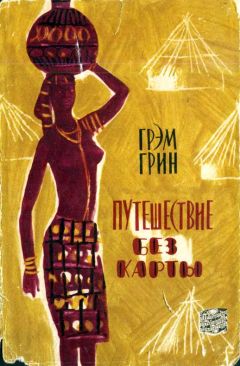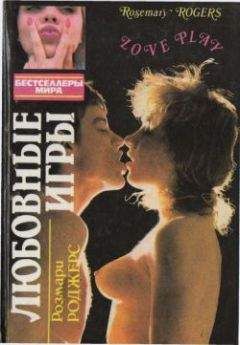— Может быть, вы знаете эту песню.
И пока молодые люди из министерства зажигали керосиновые лампы и поворачивали абажуры так, чтобы свет выгодно падал на тирольских мальчиков, ласкающих собак или слушающих сказку на коленях у матери, он запел: «Что б ни случилось, запомню я тот горный склон, от солнца золотой».
Все это отдавало красивостью самого низкого пошиба, но стремление к красоте было искренним. И чем он виноват, что лучшей пищи для этого чувствительного, нежного сердца нельзя было найти на либерийском побережье? Музыка мистера Эдвина Барклея, гипсовые бюсты, «Дева гор», керосиновые лампы, сентиментальная песенка под названием «Деревья» и патриотические стихи президента, которые министр сейчас декламировал, барабаня на пианино, — «Звезда одинокая навек».
Когда на зеленых холмах Монтсеррадо
Увидели Вольности лик золотой,
Она еще в тени мелькала ночной —
Средь грозного неба, средь грома и града —
Звезда Свободы.
У раннего утра она заняла
Доспех его светлый, огнем позлащенный,
Народ угнетенный и порабощенный
Высоким призваньем своим повела
К высокой судьбе[54].
Песня была нисколько не хуже большинства патриотических сочинений, которые мы слышим у нас, в странах старой культуры. На чужеземца, приехавшего сюда из европейской колонии, Монровия и Либерийский берег должны произвести глубокое впечатление. Он найдет здесь редкую простоту и подлинное воодушевление, чего не встретишь в таких гнилых местах, как Сьерра-Леоне; брошенные без всякой помощи на эту малярийную полоску земли, люди выстояли; если они даже и принесли с собой продажность американского политиканства, они все же пробудили в народе искреннюю любовь к родине и даже слабые зачатки культуры. Ей-богу же, совсем неплохо иметь президента, который пишет стихи, хотя бы и плохие, и музыку, пусть пошловатую. Мне было трудно отнестись терпимо к его творчеству, потому что я пришел сюда из глубины страны, где я видел куда больше естественности, где жила более старая, подлинная культура, где сохранились традиции честности и гостеприимства. Пройдя больше трехсот миль по густым безлюдным зарослям, через деревушки, где горел общинный очаг, носили тяжелые серебряные браслеты на щиколотках, а «дьявол» в страшной маске плясал между хижинами, мне труднее было восхищаться этой приморской цивилизацией. Мне казалось, что люди тут, почти так же, как и я сам, утеряли связь с истоками жизни. Но они в этом не виноваты. Двести лет американского рабства разлучили их с Африкой, дав им взамен политиканство, один колледж и желтую прессу.
Возвращение
Я раздумывал об этом, отправляясь на торговое судно, которое по радио попросили зайти в Монровию, чтобы взять на борт пассажиров, вспоминал и о детях в католической школе, бубнивших слова национального гимна:
Ура, Либерия, ура!
Ура, Либерия, ура!
Навсегда свобода нашим краем завладела.
Наша слава молода, юны наши города,
Нашей мощи — нет зато предела.
Но, плывя в шлюпке к пароходу на рейде, я сознавал, насколько люди здесь ближе к чистоте первобытной жизни, несмотря на тоненькую прослойку белой цивилизации, которая отделяет этот мир от другого — от мира пароходной трубы, сирены, нетерпеливо призывавшей нас поскорее подняться на судно, капитана на мостике, следившего за нами в бинокль. Первозданное тут — у них за спиной, от него не отделяют века. Если здешние люди и пошли по неверной дороге, возвращаться им недалеко, да и то в пространстве, а не во времени. Маленькая пристань толчками уходила назад, перед глазами открылась река; серебристые ветви мангровых деревьев торчали по берегам, как прутья ободранных зонтиков. В двухстах пятидесяти милях вверх по этой реке еще существует то самое место, тот самый кишащий красными муравьями пень, на котором я дожидался своих спутников, когда они заблудились. Недостроенная таможня, нищета прибрежных кварталов, залитая асфальтом дорога и зеленая Броуд-стрит — все это уходило вдаль с каждым взмахом весла, но одновременно уходил и тот мир, к которому принадлежали прилепившиеся друг к другу хижины в Дуогобмаи, слуга «дьявола», бичом отгоняющий грозу, старуха, насылавшая молнии, — помню, как она плелась в свою тюрьму, обмотав веревку вокруг пояса. Все это оставалось там, за белой полоской отмели, куда не мог зайти ни один европейский корабль.
А я-то думал, из последних сил пробираясь в Гран-Басу, что буду счастлив, вернувшись в мой мир. Нос лодки ударился об отмель и поднялся из воды, под нами прокатилась волна и разбилась на прибрежном песке, за ней пошла другая, рассыпалась брызгами за нами, обожгла щеки, обмыла доски нашей плоскодонки, и вот мы уже вышли на рейд, поглядывая назад — на отмель и на Африку за ней. Ну, конечно же, я счастлив, говорил я себе, отворяя дверь ванной, разглядывая настоящий ватерклозет, изучая меню за обедом, между тем как за стеклом иллюминатора уходил вдаль Кейп-Моунт, уходила вдаль Либерия — единственное место в Африке, не считая Абиссинии, где не властвует белый человек. Ну вот я болел, долго жил во власти страха, а теперь я снова здоров и снова вернулся в тот мир, к которому принадлежу.
Но что поразило меня в Африке, так это то, что она ни секунды не казалась мне чужой. Гибралтар и Танжер — эти протянутые друг к другу и только что разомкнувшиеся руки — теперь больше, чем когда бы то ни было, символизируют противоестественный разрыв. «Душа черного мира» близка нам всем. Ведь всегда была потребность вернуться назад и начать сначала. Ее испытывали и Мунго Парк, и Ливингстон, и Стенли, и Рембо, и Конрад. Писатели Рембо и Конрад сознавали, чего они ищут, а вот исследователи вряд ли понимали, какая магия полонила их и приковала к Африке, несмотря на грязь, болезни и варварство.
Капитан перегнулся через борт и стал жаловаться на свою команду, старый брюзгливый человек:
— Да, если испечь весь этот чертов сброд в пароходной топке, и то не получится хотя бы один настоящий моряк, — ворчал он, вспоминая о прошлом, о веке парусных кораблей.
Во Фритауне на борт приехали гости, и мы с ними выпили, прощаясь с Африкой. В курительной ко мне подошел какой-то морской офицер и злобно на меня поглядел.
— Я верну мой билет министерству, милейший. Этим мерзавцам… Пусть подавятся. Слышите, милейший?..
Капитан сунул два пальца в рот, скоро стал трезв как стеклышко, и пароход вышел из гавани, вышел из Африки. Но что-то всех мучило, какая-то пуповина привязывала всех к этому берегу.