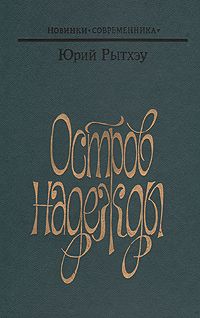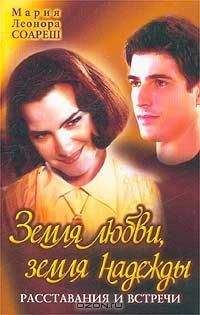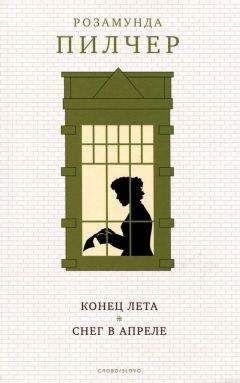— Когда уйдет пароход, — как-то сказал Иерок, — мы устроим большой песенный праздник, и я хочу, Нана, чтобы ты подумала о новом танце.
Отец напел ей мелодию.
Теперь, уходя в тундру за корешками и зелеными съедобными листьями, Нанехак думала о будущем танце, мысленно двигаясь в такт еще неслышному бубну.
А новый бубен с туго натянутой свежей моржовой кожей уже сох под дымовым отверстием яранги, набираясь силы от огня и редких теперь осенних лучей солнца. В укромных местах Иерок поместил духов — охранителей очага и дома. Снаружи в складках старой моржовой кожи, которой была покрыта яранга, незаметные со стороны, висели разные амулеты, отдаленно напоминающие каких-то зверей и птиц. Время от времени Иерок, таясь от русских, обильно смазывал их жиром и кровью моржа, нашептывая при этом какие-то заклинания.
Нанехак понимала, что здесь, на острове, рядом поселились два разных мира, и еще неизвестно, что родится от их соседства. Тот деревянный дом, который в свое время построил в бухте Провидения американский торговец Томсон, не только просто стоял поодаль, он как бы отделял непреодолимой преградой жизнь эскимосов и белого человека, а этот был широко открыт — входи, кто хочет. И жизнь, которая рисовалась в словах Ушакова, предназначалась одинаково всем — и эскимосам, и русским. «Те, кто работают» — так объединял людей Ушаков, и Нанехак чувствовала в этом высшую справедливость, хотя иной раз в душу ее закрадывалось сомнение: разве может здоровый и полный сил человек жить не работая? Мистер Томсон и тот иногда брал лопату и копал снег вокруг своей лавки. Правда, на охоту он не ходил, не ставил капканов на пушного зверя, не бил гарпуном кита, не стрелял весеннюю нерпу на льду.
Нанехак вдруг заметила, что стала много думать о жизни, а это в общем-то считалось не свойственным эскимосской женщине. Иногда ей даже становилось стыдно от того, что она так много размышляет, и Нанехак старалась уйти от этих мыслей в работу.
Надо было приготовить оленьи шкуры для шитья, выделать их так, чтобы они стали нежными, шелковистыми. Хорошо выделанная мездра оленьей шкуры не раздражает кожу, мягко касается ее и впитывает пот. Нанехак насадила каменный скребок на палку, распластала оленью шкуру на широкой доске и принялась скрести ее, снимая лишнюю, грубую поверхность. Апар разгружал пароход. Отец сидел на китовом позвонке и точил наконечник гарпуна.
Холодную часть яранги освещали костер и каменная плошка с пучком плавающего в жиру горящего мха.
Послышались шаги, и в ярангу вошел Ушаков.
— Нана! Давай чай! — распорядился Иерок, отложив в сторону работу.
Ушаков устало опустился на китовый позвонок и взял из рук Нанехак чашку с горячим чаем.
— Спасибо, Нана, — сказал он. — Нет ничего лучше, как хороший чай. Сразу снимает усталость.
— Мы все сильно устаем, — признался Иерок. — Каждый день столько работать, можно и совсем ослабеть.
— Это верно, — согласился Ушаков, — но другого выхода у нас нет. Если мы сейчас не постараемся, потом нам придется худо. Весь груз надо обязательно перенести на берег, все наше снаряжение. Вот почему я решил отложить окончательную отделку дома.
— Решение правильное, — кивнул Иерок. — Дом можно потом закончить.
— Есть еще одно дело… — сказал Ушаков. — Люди часто отвлекаются на охоту. Как увидят льдину с моржами, асе бросают и берутся за ружья и гарпуны.
— Они истосковались по настоящей охоте, — вступился за них Иерок.
— Я все понимаю, — терпеливо объяснял Ушаков. — Я знаю, что мы должны запастись моржовым мясом не только для себя, но и для собак, на приманку песцам… Но сейчас самое главное — разгрузить пароход. Ледовая обстановка ухудшается, вон сколько появилось на горизонте больших ледовых полей…
— Хорошо, — обещал Иерок, — я поговорю с людьми.
— Спасибо тебе, — обрадовался Ушаков, поставил на деревянный столик пустую чашку и направился к выходу.
Возле Нанехак он остановился:
— А мне ведь тоже потребуется зимняя одежда… Сошьешь мне, Нана?
— Она очень хорошо шьет, — похвалил дочку Иерок. — У нее такой стежок, что летние охотничьи торбаза не пропускают ни капли воды.
— Так сошьешь мне одежду? — спросил Ушаков.
Нанехак прекратила работу, поправила упавшие на лоб мокрые от пота волосы:
— Сошью… Только шкур у нас маловато.
— Шкуры у нас есть. Как только уйдет пароход, разберем грузы, каждая семья пусть возьмет себе столько, сколько нужно для зимней одежды, пологов и постелей.
— А тебе всю зимнюю одежду шить? — спросила Нанехак, оглядывая Ушакова.
— Всю! От торбазов и меховых чулок до малахая.
— Хорошо, сошью, — сказала Нанехак, и тихая, едва заметная улыбка тронула ее губы. Она не ожидала, что такой почетный заказ выпадет на ее долю. Ведь это большая радость — шить для человека, мысль о котором рождает тепло в ее сердце.
На следующий день она нашла Ушакова в его палатке и сняла с него мерку.
Подставляя то руку, то ногу, наклоняя голову, Ушаков с интересом рассматривал молодую женщину, будто видел ее впервые. Нанехак казалась ему то совсем еще юной девчонкой, то уже зрелой, умудренной опытом женщиной. Вот и на этот раз, с закушенной в зубах ниткой из оленьих жил, с озабоченным лицом, обрамленным черными блестящими волосами, она выглядела гораздо старше своих лет, и даже голос у нее был иной, повелительный, что ли. Но Ушаков с удовольствием подчинялся ее приказаниям.
— Вот если бы ты была грамотная, — сказал он, наблюдая за тем, как она узелками отмечает размеры, — то тебе не было бы нужды все держать в голове и на нитке, ты взяла бы карандаш и записала на листке бумаги. Как теперь ты все это запомнишь?
— Ты не бойся, я сошью все впору, — заверила Нанехак, не понимая его опасений.
— Я говорю, что тебе надо учиться, — повторил Ушаков.
— Я и так учусь, — просто ответила Нанехак. — Сначала меня учили отец и мать, а теперь учит муж Апар.
— А грамоте ты хотела бы научиться? Нанехак посмотрела в глаза умилыку.
— Так ведь только детей учат этой забаве.
— Какая же забава грамота? — с улыбкой возразил Ушаков. — Вот видишь?
Он показал на столик, заваленный исписанными листками, книгами, справочниками.
— Это для меня не забава.
— Я не то хотела сказать, — смутилась Нанехак. — То, чему учит Павлов наших детей, — ведь это забава?
— Ты сказала, что тебя учили мать, отец, а теперь учит муж, — продолжал Ушаков. — Они учили тебя настоящей жизни: шить, заправлять жирник, разделывать добычу, обрабатывать шкуры, чтобы они были мягкими… Сначала, когда ты была совсем маленькая, это действительно, может, и было игрой… Так вот то, чему учит Павлов, только сейчас кажется детской забавой, а потом, со временем, станет опорой будущей жизни.