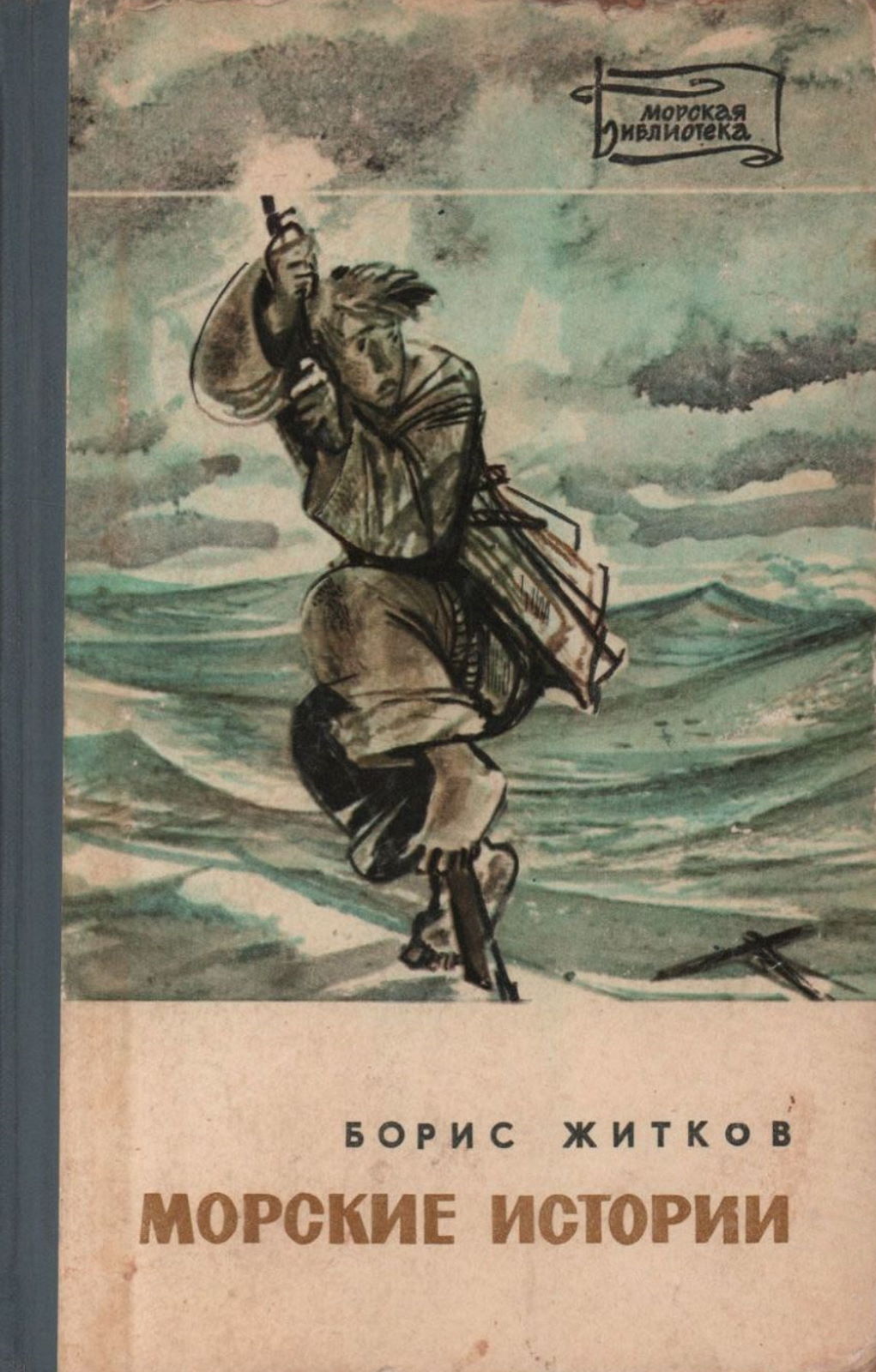дым от горна, как в трубе, все судно гудит, как палят в тебя со всех сторон. Я сам беситься от этого стука стал. Я ему опять грею, он к горну пришел, надавал мне по шее и сам стал греть. Ух, обозлился я! Нет, верно, заклепки я правильно грел. Вот, думаю, это потому, что я сдачи ему дать не могу, он и разворачивается. И стал думать, что я ему сделаю, когда вырасту. Было б что под рукой, так, кажется, раз…
А в обед он опять мне кулаком грозит. Орет, глухая тетеря, на весь завод: «Сейчас к мастеру пойду, чтобы тут тобой не воняло! У меня, — кричит, — знаешь: раз — и готово!»
После обеда мне вперед надо было идти, горно разводить. Я спустился в люк, во вторую палубу, руку впереди держу и иду. Нащупал рейку… и ничего как будто и не думаю. Взял ее рукой и держу. Вдруг я ее— раз! — и готово. Ей-богу, она еле держалась. Оторвал рейку я, одним словом, и в сторону ее, прочь со стоек. Пусть теперь он пойдет, не найдет рейки — раз! — и готово. Да я так-то и не думал, а злился только. Стал в темноте, в сторонке, и жду. Вот уж гудок, пошла работа, все судно загудело.
Вижу, дяденька в просвете люка, что вверху, показался. Потом полез по лесенке, и больше не видно. Темно там, и не слышно ничего — так грохочет кругом. А я Стою и жду, дух зашибло во мне… Сейчас… сейчас… И вдруг захотел крикнуть со всей силы: «Дяденька, дяденька, стой!» Да ведь не слышно, а подскочить не успею все равно, и ноги как примерзли. Я к лесенке наверх и побежал вон с судна. А потом думаю: а вдруг он и прошел, как-нибудь да и прошел? И побежал туда, где мы работали. Иду и говорю: «Дай бог, чтоб был, ну, дай бог, чтоб был!» И боюсь идти, а ноги сами так и тащат.
Наши там, а дяденьки нет. И вот клепальщик показывает рукой: борода — значит, дяденька-то — еде? Идет, что ли? Я головой помотал и прочь, и бежать, бежать! Думаю, лежит он теперь там в трюме, разбитой, — не может быть, чтобы живой. А сам думаю: «Ведь- могла же рейка сама упасть, еле ведь держалась. И без меня могла упасть». Бегу, а сам вою. И бегу, где б народу меньше. И кому сказать? Полдвора перебежал и вижу — по рельсам кран ползет и листы несет, а на кране машинист. Я кричу ему. Не помню уж, что кричал. А он не слушает, смотрит, куда листы положить и чтоб не переехать кого. А я рядом бегу, падаю и опять бегу, и кричу, и вою.
Он остановился, опустил листы и потом ко мне. «Чего там?» — говорит. Я вою — он ничего понять не может. Слез с крана. Я кричу: «Упал дяденька, — говорю, — с палубы в трюм, там лежит!»
Тогда он в машине что-то сделал. «Сейчас», — говорит. Тут я заревел и хотел бежать. А он кричит: «Стой! Как же найдем без тебя?» Побежал я за ним. Он там к мастеру; все смотрят. Мастер кого-то позвал, чтобы воздух застопорить.
Сразу все остановилось — тихо. Вот страшно стало! «Коли стонет или кричит, услышим». Свечку принесли. Я смотрю: как я рейку оторвал, так она там и лежит. «Тут», — говорю.
Все собрались кругом. Меня спрашивают: «Ты видел?»
А я весь трясусь и зубы трясутся.
Тут веревку принесли и говорят: «Спуститься надо, сначала посмотреть, есть ли там он».
А я кричу, как лаю точно: «Я, я, меня спустите!»
Привязали меня, дали свечку. Я в этот пролет, как в гроб, спускаюсь. Думаю: если он живой, буду его целовать, дяденьку милого моего, лишь бы хоть чуточку живой только. И смотрю все вниз, а что на веревке я, это я и забыл, и что высоко. Свечка мало светит. Я до самого дна дошел, и нет его, нет там дяденьки. Я стал кричать: «Дяденька, а дяденька!» Гудит в железе мой голос. Я на веревке походил туда, сюда — нет, и не видно, чтоб был.
Глянул вверх — чуть светлый круг видно, люк это проклятый. Стали меня подымать. А там уж свет электрический протянули, и полна палуба народу, и все на меня смотрят, а я ничего сказать не могу, как закаменел.
И вдруг смотрю: стоит среди людей мой дяденька, живой, совсем живой, и все на меня смотрит. Я как брошусь к нему и тут заорал со всего голоса; кричу: «Дяденька, миленький, родненький!» И заревел.
А он нагнулся, гладит меня и совсем добрый-добрый, гладит меня и орет хрипло: «Чего ты, шут с тобой? Да милый ты мой!» — и даже на руки поднял.
А это он тогда минул люк стороной и пошел за инструментом, там и завозился — оттого его тогда внизу о нашими и не было. Стали работать, хватились, а меня тоже нет. Потом, когда воздух стал, наши подождали, подождали, да и вылезли поглядеть, что случилось, чего это весь завод стоит. А тут я. Ну, вот и все.
Было это давно, лет пожалуй, тридцать тому назад.
Порт был пароходами набит — стать негде.
Придет пароход — вся команда высыпает на берег, и остается на пароходе один капитан с помощником, механики. Это моряки забастовали: требовали устройства союза и чтоб жалованья прибавили.
А пароходчики не сдавались — посидите голодом, так небось назад запроситесь!
Вот уже тридцать дней бастовали моряки. Комитет выбрали. Комитет бегал, доставал поддержку: деньги собирал- Впроголодь сидели моряки, а не сдавались.
Мы были молодые ребята, лет по двадцать каждому, и нам черт был не брат.
Вот сидели мы как-то, чай пили без сахара и спорили: чья возьмет.
Алешка Тищенко говорит:
— Нет, не сдадутся пароходчики, ничто их не возьмет. У них денег мешки наворочены. Мы вот чай пустой пьем, а они…
Подумал и говорит:
— А они — лимонад.
А Сережка-Горилла рычит:
— Кабы их с этого лимонаду не вспучило. Тридцать дней хлопцы держатся, пять тысяч народу на бульваре всю траву штанами вытерли.
А Тищенко свое:
— А им что? Коров на твоем бульваре пасти? Напугал чем!