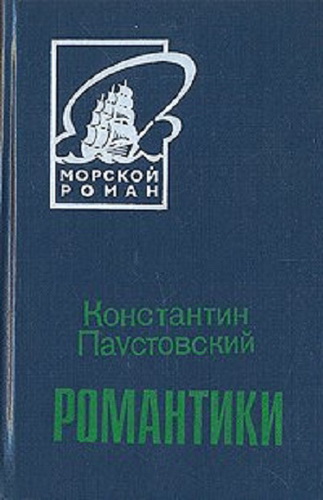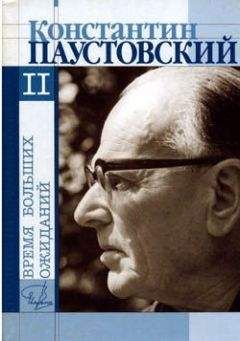бросается, стрелять нельзя — можно попасть в публику. Поэтому у укротителя в револьвере только одна боевая пуля, остальные заряды холостые. Он стреляет холостыми, если же видит, что не помогает, видит, что крышка, то последнюю боевую пулю — в себя. Баер показал мне револьвер, я взял его, повертел и спрятал в карман. «В чем дело?» — «Дело в том, говорю, что я не укротитель, но я сойду в клетку с вашими лопоухими львами и просижу пять минут». Баер обалдел. Я вышел, привел фотографа, дал Баеру расписку, что в случае смерти вся вина на мне, вошел в клетку и сел на стул.
— Ну и что? — спросил Игорь.
— Что? Ничего. Львы подвинулись, высунули языки и смотрели на меня с удивлением.
— И ты просидел все пять минут? — спросил Середииский.
— Не пять, а семь.
— Почему?
— Потому что дурак фотограф. Он непременно хотел снять одного льва в профиль, говорит — редкий профиль, а тот все не садился, все анфас и анфас. Да ты что, не веришь? Я тебе завтра карточку покажу.
Игорь захохотал.
— Какой вы врун, Любимов, — сказала Нина.
— Нина Борисовна, — сказал торжественно Любимов, — я не вру. Я на этих львах карьеру сделал. После этого меня пригласили редактировать «Синий журнал».
— Это у вас, — спросила Нина, — был всероссийский конкурс на лучшую гримасу?
— У меня.
— А это у вас, — спросил Роговин, — была фотография картошки с лицом Горемыкина?
— У меня — все у меня. У меня и не это было. У меня была фотография грудного ребенка с окладистой бородой и болонки с ослиными ушами.
Игорь снова захохотал.
— Иди спать, Игорь, — сказал строго Семенов. — Нахохочешься, потом ночью будешь плакать.
Игорь покраснел, шаркнул ногой, сказал «покойной ночи» и ушел в комнату. За дверью он еще раз прыснул.
После чая пошли по узкой дороге к реке Серебрянке.
— «Дул свирепый зунд прямо в Трапезунд», — запел Серединский и вскрикнул:
Ах, мичман молодой
С русой головой
Покидал красавицу Одессу!
Дальше не знаю. Вот черт! Нет у меня памяти на эти песенки.
— Я знаю, — сказала со смехом Наташа:
Запомни фразу, лихой моряк:
Любить двух сразу нельзя никак.
— В горелки! — закричал диким голосом Любимов. — Роговин, расставляй всех. Я горю.
Первыми бежали Серединский и Наташа. Серединский бросился в лес, ломал кусты, ухал, кричал, изодрал о ветки лицо.
Потом бежал я с Ниной. Я далеко обогнал ее, она добежала ко мне, задыхаясь упала мне на руки, и сквозь тонкую ткань я почувствовал ее горячее бедро, ее дыхание обдало мне щеку. Подбежала Наташа.
— Нина, я схватила тебя, ты вырвалась. Это неправильно. Ступай гори.
— Я и так вся горю, — сказала Нина. — Довольно. Я не могу больше.
— Ну, сядь на пень и сиди. Отдышись.
Наташа взяла меня за руку, стиснула пальцы так, что хрустнули кости. Я вскрикнул.
— Твердая рука, — сказала она шепотом. — Мальчишеская слабая рука. Вам больно. Какой же вы моряк после этого?
Я отнял руку.
— Трудно бегать в темноте. Довольно! — крикнул я. — Роговин! Довольно.
— Ну, ладно, — ответил Роговин. — Отставить. Пойдем дальше.
Рука у меня ныла. Я закурил, зажег спичку. Увидел глубокую ранку от ногтя. Из нее сочилась кровь. Я перевязал ранку платком.
Я шел с Семеновым, он говорил мне что-то о Розанове, но я ничего не слышал, отвечал некстати, краснел в темноте. Надо подбить Роговина сейчас же уехать. Кажется, есть двухчасовой поезд.
Около реки сели на берегу. Сосны стояли над самой водой, вода журчала о корни, над лесом мигнула зарница. Все молчали.
— Вы, кажется, поранили руку? — спросила Наташа.
— Да. Я, кажется, запачкал кровью и вас.
— Как кровью?
— Так, очень просто.
— Посмотрим, — сказал Семенов и зажег спичку. — Смотри, Наташа, у тебя вся ладонь в крови. Здорово налетели, — сказал он мне. — Смотрите, весь платок мокрый. Должно быть, напоролись на сучок. Вы не шутите с такими вещами. Надо перевязать как следует.
— Доигрались, — сказал Серединский. — Я себе всю рожу изодрал. Максимов истекает кровью. Какой дурак играет ночью в горелки?
Наташа подошла ко мне.
— Давайте я перевяжу.
— Не надо, — сказал я резко. — Ради бога, не надо. Почему вы все всполошились? Пустяковая царапина.
Мигнула во все небо зарница, и глухо проворчал гром. В реке тяжело плеснула рыба. Сразу стихло, потемнело.
— Будет дождь. Пойдемте, а то захватит в темноте.
Снова мигнула зарница, явственней прогремел длинный гром, лес зашумел, — подул ветер.
— Роговин, — спросил я, — сейчас нет поезда на Москву?
— Есть.
— Да вы что, с ума сошли? — крикнула Нина. — Ночью под дождем ехать в Москву, да еще с окровавленной рукой.
— Я вас не пущу, — сказал Семенов. — Все ночуют у нас. На даче тесно, мы там оставим Любимова с Игорем и нянюшкой, а сами пойдем на сеновал, там тепло и сухо.
На обратном пути Наташа не сказала ни слова. Роговин шумно дышал, говорил, что слышит запах дождя. Зарницы были зловещи, верхушки сосен шумели, гром гремел над самой головой.
— Хорошо! — крикнул Роговин. — Ночью гроза в лесу. Слышите, как пахнет сосной, вот здорово. «Нас венчали не в церкви, не с попом, не с венцами», — запел он низким тенором.
Упало несколько капель, потом стихло, стало тепло и душно. На даче на веранде Наташа молча перевязала мне руку. Рука распухла, йод прожег ее насквозь. Я промолчал. Наташа подняла на меня холодные темные глаза.
— Вы ждете, чтобы я крикнул?
— Нет… Я думаю, что вы засорили рану.
— Очевидно, ногти не всегда бывают стерильными.
Она отвернулась.
— Как все это нелепо, — сказала она. — Нелепо и неинтересно. Вы болтаете глупости, я тоже; не нужно это. Зачем?
Шел шумный дождь, плескал по лужам у крыльца. Далеко за лесом мигали голубые зарницы.
Семенов перетащил на сеновал ковер, и мы по очереди перебегали под дождем. На сеновале было темно, тепло, над самой головой барабанил дождь. В окно были видны далекий огонь семафора, лес, звезды среди разорванных туч.
Рука набрякла, сильно ныла, хотелось лежать на сене, не вставая, сутки, недели. Дождь полил с новой силой.
Серединский тихо запел:
Мы никогда друг друга не любили
И разошлись, как в море корабли.
— В затрепанном романсе — и вдруг такой точный образ, — сказал я Семенову. — «Мы разошлись, как в море корабли». Вы знаете, как корабли расходятся ночью? Это очень тоскливо. Вы видите только бледные огни, они проплывают мимо, и