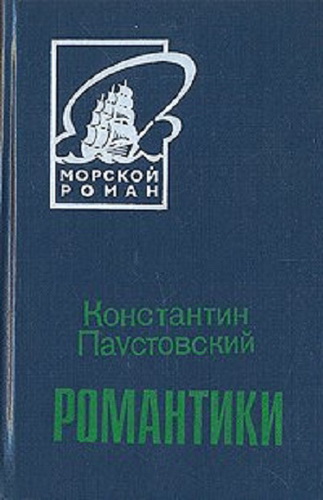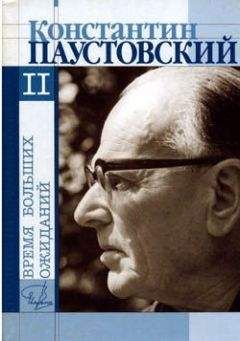отвечайте. Какая радость у меня на сердце, если бы вы знали. Я свободна, свободна, свободна, и я люблю вас — моего милого застенчивого капитана».
Он бросился в Москву — ее там не было. Он узнал, что она ждала полгода и уехала в Америку, к сестре. Он добился рейса в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он оставил пароход, объехал всю страну, оттуда вернулся в Батум. По пути в Батум во время ночных встреч с ним бывали обмороки — ему казалось, что она по-прежнему ищет его и они будут расходиться всю жизнь. Я познакомился с ним в Батуме. Он приходил на пристань к каждому пароходу и часто бывал пьян…
— Это все? — спросила Наташа.
— Все.
— Жаль… А вы не знаете, что теперь с этим капитаном?
— В прошлом году он бросился с «Трувора» в море между Керчью и Феодосией во время ночной встречи. Его не успели подобрать, и он утонул.
Все молчали. О крышу постукивал дождь.
— Эх, — сказал Роговин. — Растревожили вы меня. А тут еще это ненастье. Вот тоска.
Наташа взяла мою больную руку, потрогала бинт — он был сухой — и сказала:
— Какая я дура, дура, дура… Как вы должны меня ненавидеть.
— Чудно, — сказал после долгого молчания Семенов. — Дождь идет такой московский, ручной — шумит себе и шумит. Кругом Россия — и вдруг такой рассказ. Не наш у вас темперамент, Максимов, чертовщиной от вас несет.
Началось душное лето. Дни стояли серые от зноя, вечера были багровы и туманны. Я решил ехать к морю, к Хатидже и взял в редакции отпуск.
За день до отъезда ко мне пришел Семенов. Мы поехали с ним вечером в Нескучный сад. После города здесь было свежо, в Москву возвращаться не хотелось, и мы провели ночь в саду, в Елисаветинском павильоне, спрятавшись от сторожей. Над Москвой горело зарево, на реке свистели катера, был слышен смех женщин, скрип уключин. Иногда по Окружному мосту гремел поезд. Вечер был влажный, в зеленой черноте светились звезды.
Мы уснули в широких нишах павильона и проснулись на рассвете. Чистая, как жидкое зеркало, спала река. Выкупались и пошли вдоль берега к Крымскому мосту.
— Ничем нельзя убить Москву, — сказал мне по дороге Семенов. — Уничтожить ее сущность, ее душу — нельзя. Тысячи потрясений ничего с ней не сделают. Каждое новое потрясение наложит на облик Москвы еще одну черту, но не убьет ее. Так и будут жить рядом Кремль и подземные железные дороги, Борис Годунов и Станиславский, вокзалы и старые липы Замоскворечья, футуристы и общества любителей соловьиного пения. Москва — подобно Риму и Парижу — вечный город. Она переживет поколения, эпохи и идеи, как Париж пережил величайшие ломки, казни и подъемы. Около статуи Дантона я всегда вспоминал Мими и Флобера, всегда думал о вечном прибое и отливе творчества в стенах Парижа. Вы представьте — собор Богоматери и восстание коммунаров, Гюго и Пикассо. То же и с Москвой. Сквозь пожары и революции, великие войны и колокольный звон, бунты и покаяния, сквозь море народных движений, приниженность и скуку — она пройдет, как монолит, и сохранит свой облик — во сто крат более прекрасный. На перевале веков, культур он станет особенно четок — этот облик Москвы, вечного города, которому будет молиться вся Россия, все человечество. Мы идем к небывалой эпохе возрождения.
Я сказал, что меня с давних пор тревожит мысль о гибели европейской культуры. Прекратится творчество. Не о чем будет писать, никто не сможет сказать новое и весомое слово. Погаснут фонари, опустеют дороги, стекла в домах будут лопаться от стужи, и только страх за свою, теперь уже никчемную, жизнь будет владеть лучшими умами. Выживет ли тогда Москва?
— Это абсурд, — сказал убежденно Семенов. — Этого не может быть.
Я пояснил свою мысль. Умирают не только люди, но и народы и все человечество. Это — биологический закон. Человечество может дряхлеть, терять молодость, впадать в младенчество, у него перестанет свертываться кровь. Я не могу себе сейчас представить те чудовищные формы, в которые выльется это умирание, но мне кажется, что скоро человечество свихнется. Легенды о кончине мира родились именно тогда, когда гибли великие культуры Эллады, Рима, чудесные статуи и медно звенящие стихи.
— Слушайте, — сказал Семенов. — Вам надо полечиться. Вы уже договорились до конца мира. Или вы много пьете, или переутомились. Купайтесь почаще.
— Дело в том, что завтра я могу развить перед вами совершенно противоположные взгляды.
— Чудак, — протянул Семенов. — Вам, очевидно, нравится самый ход мыслей, а не истина. Вы думаете образами и никогда не стараетесь оправдать их логикой. Что получилось бы, если бы Кант, например, решил свои отвлеченные мысли передать в форме романа? Редкая чепуха!
Вечером, накануне отъезда, я зашел к Семенову попрощаться. Дома никого не было.
Старуха нянька Никитишна посмотрела на меня ласково поверх очков и сказала:
— Соколик мой. Давно тебя не видала. Я и то Наташу спрашиваю: чтой-то матросик наш глаз не кажет?
— Почему вы меня матросом прозвали?
— Знак у тебя этот на руке, якорь. Племянник у меня в городе Кронштадте служил, — вот у него такой знак был на груди. Заместо креста так у него якорь, у безбожника. Ну, посиди.
Я прошел в кабинет Семенова и лег на диван. В громадном небе горела одна только звезда, закат едва был виден за Кремлем. Я наугад взял книгу с полки, открыл ее и прочел:
Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.
Я вспомнил, что завтра еду в Севастополь, к морю, к Хатидже. Вспомнил ночь в белом городе, когда был болен Сташевский, и Москва показалась мне сном. Легкий ветер бродил по комнате, в церквах тихо звонили.
Проснулся я оттого, что кто-то упорно смотрел мне в лицо. Перед диваном на коленях стояла Наташа. Она оперлась подбородком на руки, лица ее в темноте не было видно.
— Это правда, что вы завтра уезжаете? — спросила она и встала.
— Да, правда. Когда вы пришли?
— Недавно. Я открыла дверь своим ключом, вошла и увидела вас. Я даже испугалась.
— А где Семенов?
— На даче. Он приедет завтра.
Она подошла к окну и села на подоконник. Я встал.
— Куда вы едете?
— В Севастополь.
— Значит, туда, к ней. Нет, нет, я что-то не то говорю. Но зачем