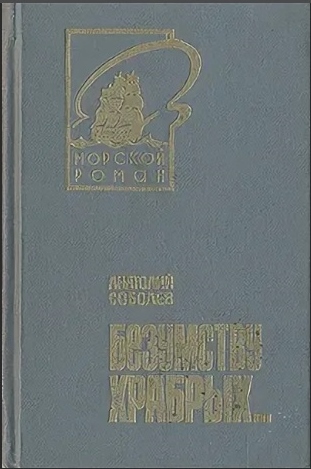солнца.
— Ура-а-а! — заорал Костыря. Все подхватили его крик, и над тундрой понесся торжествующий клич во славу чуда из чудес — солнца.
А солнце на глазах победно и неотвратимо поднималось и ширилось, и все кругом преображалось. Порозовели снега под косыми и еще слабыми лучами, и странно было видеть снег розовым, а не синим, каким лежал он всю полярную ночь. Ребята зачарованно глядели на диво дивное, на чудо чудное и улыбались. Солнце, солнце! Какое счастье все же — солнце!
— Живем! — Костыря от избытка чувств так ахнул Пенова по спине, что тот задохнулся и долго кашлял.
— Теперь полегше станет, — сказал Чупахин, и все поняли, что он говорит о тех мучительных днях без света, которые миновали. Угнетало, доводило до глухой тоски постоянно темное небо. Утром, днем, вечером, ночью — постоянно черное небо.
А солнце не вырастало больше, оно передвигалось по горизонту, и ребята заметили, что на светлой горбушке появилось какое-то пятно. Матросы глядели на эту движущуюся по солнцу точку и не понимали, что это такое.
— Это что — солнечное пятно? — спросил Генка Лыткин.
— Зверь, что ли, какой бежит, — раздумчиво откликнулся Чупахин.
— Песец у тебя из капкана удрал, — хмыкнул Костыря.
Было и вправду похоже, что какой-то зверек перебегает солнце. Чупахин схватил бинокль, поднес его к глазам и радостно воскликнул:
— Оленья упряжка!
— Ура-а-а! — завопил Костыря. Матросы взволнованно загалдели.
— Даже две, — уточнил Чупахин, не отнимая бинокля от глаз.
Все рвали бинокль из его рук. Каждому хотелось побыстрее своими глазами увидеть долгожданных гостей. Это могли ехать только к ним. Неделю назад Пенов принял радиограмму о приезде на пост поверяющего офицера, с которым прибудут письма, газеты, продукты и боеприпасы.
Уже видно было и без бинокля. Олени неслись по озаренной солнцем тундре, будто мчали за собой не нарты, а само солнце.
— Гляди, гляди, — почему-то шепотом говорил Виктору Генка Лыткин и толкал его локтем. — Какая картина! Олени и солнце. Ух ты! Красота-то какая!
А солнце между тем уже исчезало, оно плющилось, сжималось, будто от мороза, который стал еще крепче. Светящаяся горбушка скользила за горизонт, становилась тоньше и тоньше. И снова стали набирать синеву снега, стало темнеть небо, и уже прорезались первые звезды. Но теперь с легким сердцем провожали ребята солнце, знали: с каждым днем все больше и больше будет оно задерживаться на небосводе, будет все ярче и ярче разгораться, и наконец наступит время, когда уже не уйдет с неба круглые сутки, и начнется долгий полярный день.
Олени, закинув ветвистые рога на спину, летели к посту, поднимая снежную пыль, сверкающую рубинами под последними лучами исчезающего солнца. Золотые рога, розово-золотые олени и солнце — все это было удивительно красиво.
Олени все ближе, уже виден морозный пар, вырывающийся из ноздрей, уже слышен хриплый, тяжкий дых, уже скрипят полозья нарт. Вот и подлетели они! С передних нарт соскочил низкорослый ненец в малице, с непокрытой черноволосой головой и громко крикнул тонким голосом:
— Насяльник, шибка бида!
Со вторых нарт соскочил маленький человечек в обледенелой малице и медленно сползала еще какая-то глыба льда. Одежда на них стояла колом и хрустела.
Только в кубрике матросы разобрались, что обледенелая глыба — поверяющий офицер в тулупе, а маленький человек — мальчик-ненец лет десяти.
— Провалились в полынью, — еле выговорил посиневшими губами лейтенант. — Утопили ящики.
— Спирту давайте! — приказал Чупахин.
Костыря кинулся на камбуз и выскочил оттуда с кружкой спирта.
— Пейте! — сказал Чупахин лейтенанту. — И снимайте все. Натирать будем.
Офицер сорвал с усов ледяные сосульки и выпил полкружки. Его и мальчика раздели и натерли спиртом до красноты. Дали теплое белье. Лейтенанта била крупная дрожь, он не мог говорить, стучал зубами. Старик ненец сидел у порога и спокойно курил коротенькую трубочку. Офицеру и мальчику дали горячего чая. Поднесли спирту старику ненцу. Он выпил с удовольствием и, восхищенно поцокав языком, сказал:
— Шибко карашо, насяльник.
И опять сел у порога. Сузив глазки, ласково поглядывал на матросов и курил трубку.
Лейтенант, прихлебывая чай и грея ладони об алюминиевую кружку, рассказывал, как первые нарты, которыми правил старик, проскочили по наледи озера, а вторые, которыми правил сын старика, провалились под лед. Олени с ходу выдернули нарты, но все, что было на нартах, ушло под воду: ящики с боеприпасами, с сахаром, мукой, сухарями и сушеной картошкой.
— Одо-до-до-о! — вдруг запел ненец у порога, раскачиваясь из стороны в сторону и блаженно зажмурившись.
— Во дает! — восхищенно осклабился Костыря. — Сразу окосел.
— Шибко карашо, насяльник, — сказал ненец и сплюнул на пол.
— Ну дает! — Костыря растерянно глянул на изменившегося в лице Чупахина.
Для старшины плевок на палубу был равносилен личному оскорблению. Но на этот раз и у Костыри заскребли кошки на душе. Именно он накануне выдраил палубу как стеклышко. И вот на тебе!
Ненец снова запел протяжно и древне красиво. За душу брал однотонный мотив с тягучим повтором:
— Одо-до-до-о!..
— О чем он? — спросил всех Курбатов.
Этот однотонный и древний мотив напомнил ему детство на Алтае, где такие же низкорослые, раскосые и безобидные алтайцы точно так же пели свои нескончаемые, протяжные и хватающие за сердце песни.
— Переведи, — сказал лейтенант мальчику.
Мальчик, посверкивая угольными смышлеными глазенками и все время доверчиво улыбаясь, пояснил, что отец его поет о тундре, которая зимой белая, летом в цветах, и что нет на земле места прекраснее, чем тундра. Но в ней надо быть осторожным, потому что таит она много опасностей. Не надо быть слепою мышью, надо иметь глаза совы и ноги оленя.
— Шибко карашо, насяльник, — прервал песню старик и стал снова набивать маленькую трубочку табаком из расшитого кожаного кисета. К удивлению матросов, мальчик тоже вытащил кисет и трубку и тоже принялся набивать ее табаком. Оба закурили, сидя рядышком у порога.
— Во дают! — изумленно таращил глаза Костыря.
— Зачем вы ему разрешаете курить? — обратился Генка Лыткин к старику.
— Он не понимает по-русски, — сказал офицер. — Знает только: «Шибко хорошо, начальник» и «шибко беда, начальник».
— Он же мальчик, у него организм слабый, — продолжал Лыткин.
— Переведи, — сказал офицер мальчику, и мальчик перевел отцу. Старик пыхнул трубочкой и что-то ответил.
Мальчик перевел на русский.
— В тундре нельзя без курева: летом комары заедят, зимой замерзнешь.
Старик снова сузил веки и, казалось, уснул, но нет-нет да блеснет черный глаз между добродушными складками век, и по-детски ясная и открытая улыбка еще больше натянет скуластое плоское лицо. И это тоже напоминало Виктору родной Алтай, там алтайцы тоже курят с детства трубки и философски спокойно