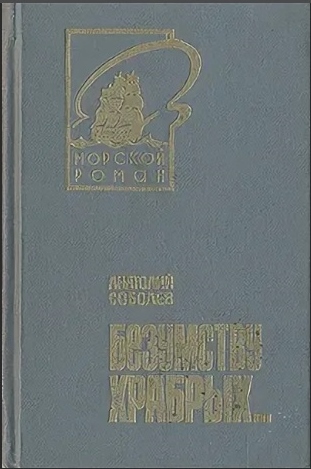Эльдорадо, Аргентине, Кубе не покидала Мишку, и мальчишеское сердце продолжало тосковать о дальних морских дорогах, о соленом ветре, о штормах и альбатросах. Уплывали мечты белыми птицами в синее море! А жить Мишка оставался в маленьком степном городке на берегу неширокой мелкой речки.
Вырос, окреп, стал сметлив, ухватист и боек. Носил тельняшку, клеши и мичманку набекрень, как заправский одессит. Работал летом на спасательной станции, вылавливал тонущих.
А зимой учился в школе, где был кумиром и атаманом всех ребят. Презрительно кривил губы, когда слышал про любовь. И все мальчишки знали, что он железный человек и ценит только мужскую дружбу. И никто не подозревал, что Мишка был тайно и безнадежно влюблен в девчонку, которая училась классом старше и была его соседкой. Становился он при ней беспомощен и стыдлив. И когда случалось из школы идти вместе, Мишка был счастлив и заикался от волнения. Наверное, она догадывалась о его чувствах и порою поддразнивала и кокетничала. Он же признаться ей не отважился. Так и ушел на войну.
И как же он обрадовался, когда взяли его служить именно во флот. Иной службы он и не представлял. В большом областном городе на призывном пункте выдал себя ребятам за одессита. Наконец-то он мог играть любимую роль, не боясь быть разоблаченным. Он почему-то был уверен, что попадет воевать только на Черное море, только в Одессу. И вдруг угодил вот в эту дыру…
Со стороны моря донесся стук, приглушенный голос. Мишка прислушался. Нет, показалось. Хоть бы скорее Чупахин вернулся, снял с вахты. Чего в такой туман стоять! Ни черта не видно!
Костыря включил прожектор, поводил им справа налево, чтобы дать ориентир ребятам, но луч света увязал в тумане, размазывался мутным оранжевым пятном совсем рядом. Ну да ничего, и без прожектора не потеряешься в этом богом забытом крае. Иди себе бережком, в пост обязательно упрешься, мимо не проскочишь. Костыря снова замурлыкал любимую:
Ведь ты моряк, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда…
Тем временем внизу, в кубрике, открылась дверь. Пенов, который все еще чинил штаны — в этот момент он как раз вставлял в ушко иголки намусоленный конец нитки, — оглянулся не сразу. Да и кому было войти, как не Чупахину или Курбатову с Лыткиным. Но дверь почему-то не закрывалась, и за спиной хранилось молчание. Слегка удивленный тишиною, всунув наконец нитку в иголку и улыбаясь удаче, Пенов повернулся. Первое, что увидел он, был автомат, пристально уставивший на него черный пустой зрачок. Пенов хотел сказать: «Брось, какие шутки!» — как подсознательно отметил, что автомат не русской марки, и, еще тая в уголках рта тепло непогасшей улыбки, поднял глаза выше и какое-то время бессмысленно-тупо глядел в лицо немцу.
Немец был с бородкой эспаньолкой, а таких Пенов не видел ни на плакатах, ни в кино. И сейчас он видел впервые не только немца с эспаньолкой, но и вообще немца, живого немца и в то же время будто бы и нереального, как во сне, ибо откуда же, черт побери, взяться тут немцу да еще с эспаньолкой! За первым немцем в проеме двери Пенов увидел второго. Что за наваждение! Спит он, что ли! Все это пока скользило мимо сознания, еще даже не родился страх, еще было любопытно, и мозг продолжал работать вхолостую, но какой-то внутренний голос уже подсказывал, что нет, это не сон, это явь. На миг мелькнула нелепая и в своей нелепости показавшаяся правдивой мысль, что его просто разыгрывают и сейчас за этим, с эспаньолкой, раздастся знакомый хохот — и войдут в дверь ребята. Но страшная догадка уже смяла сердце. И, так и не поднимаясь от рации, Пенов хрипло, чужим голосом, которого и сам не узнал, дико закричал:
— Не-е-мцы!!!
Его схватили двое. Пенов отчаянно сопротивлялся, царапался, выворачивался вьюном. Со страху он лишился голоса и только хрипло мычал. Наконец голос у него прорезался, и он пронзительно звонко крикнул:
— Мишка, не-е-емм… а-аа-ахх!!! — от удара в висок в голову хлынула тяжелая гулкая чернота…
Костыря в этот момент насвистывал «Чижик-пыжик, где ты был?». Сквозь собственный свист уловил какой-то шум внизу и, считая, что это вернулись с обхода ребята, открыл люк — и оцепенел: по трапу, хорошо освещенному из кубрика, поднимался немец. Он неправдоподобно, как призрак, увеличивался в размерах и, казалось, заполнял не только отверстие люка, но и вообще все пространство вокруг. Еще не совсем отдавая себе отчет в действиях, Мишка, как рысь, прыгнул к автомату, который висел на гвозде мачты, сорвал его и в упор выпустил длинную очередь. Немец, успевший почти вылезти на площадку, переломился надвое и застрял в отверстии. Мишка зачем-то пустил веером очередь вокруг себя в пустоту, как делал в детстве, когда отмахивался от ребят палкой. И тотчас на его автомат откликнулись снизу длинные пулевые вспышки. Щеки опахнул знойный металлический ветер. Со звоном, на миг заглушив стук автоматов, лопнул прожектор. Осколки брызнули Мишке в лицо, он испуганно зажмурился.
— Эй, матрос! — крикнули снизу на чистом русском языке, четко и от этого сухо и странно выговаривая слова. — Сдавайся! Бессмысленно сопротивляться!
Мишка пустил длинную очередь на голос. И эта очередь, и ощущение тяжести оружия в руках вдруг дали Мишке уверенность и понимание происходящего.
— Ха! — сгоряча отчаянно-весело закричал Мишка. — Сунься! Ха!
Автомат бился в руках, как пойманная большая рыба, выплескивая в туманный сумрак горячие струи. Очереди гулко отдавались в груди.
— Ты моряк, Мишка!.. — кричал Костыря засевшую в голове строчку из песни. — Эх, не видно вас! А то б я вас на тарелочке!..
И вдруг автомат в его руках смолк, горячая дрожь оружия умерла. Мишка остервенело давил на спусковой крючок, еще не понимая, что кончился диск. Так и не осознав этого, он увидел, как две светящиеся трассы вспороли туман, и протянулись к нему совершенно параллельно друг другу, и начали сходиться, суживая расстояние между собой, а он, Мишка, стоял как раз посредине. И он ясно понял, что это КОНЕЦ, что он не успеет уйти из-под удара, и, со всхлипом набрав полную грудь воздуха, оцепенело смотрел, как трассы все сходились, сходились, пока не превратились в одну раскаленную трубу, которая горячо и тупо ткнула ему в живот. Боли он не почувствовал, только стало нехорошо и тяжко, и тошнота подкатила к горлу. Он еще успел подумать, что эти трассы похожи на лучи прожекторов, потом