– Я возвысил этого человека. Его неудача – моя неудача. Люди считают меня ответственным за ужасные страдания, выпавшие на долю моих подданных. А мне нечего возразить.
В подавленном настроении он отказался от намеченного путешествия, покинул Барселону и вернулся в Мадрид. В каждом его вздохе звучало: «О горе мне!»
И вдруг, подобно торжествующему лучу солнца, его мрачное отчаяние рассеяла потрясающая новость с Ла-Молы: полный разгром флота Драгута, возвращение награбленного на Мальорке, освобождение людей, захваченных им на Балеарских островах, и бесчисленного множества христиан, изнемогавших от рабского труда на галерах варваров!
В письме Просперо содержалось высказывание, столь любопытным образом подтвержденное в отчете губернатора, что Просперо можно было заподозрить в том, что он-то и внушил губернатору эту мысль.
«Славный подвиг, – писал губернатор, – совершен неаполитанской эскадрой, возглавляемой мессиром Просперо Адорно, лучшим капитаном флота Вашего Величества. Мы, Ваши верноподданные на этих островах, сообщаем Вашему Величеству, что герцог Мельфийский и его достойный подчиненный своевременными действиями спасли Минорку и возместили ущерб, причиненный Мальорке».
Эти радостные слова император расценил не только как апологию герцога Мельфийского, но и как свое собственное оправдание, что было гораздо важнее. В речи, обращенной к тем, кто своими безжалостными нападками на Андреа Дориа внушал Карлу чувство стыда, император назвал их злобными клеветниками. Чтобы прекратить критику Дориа, которая, как ему казалось, была косвенно адресована ему самому, король велел обнародовать письма, извещающие о победе. Было объявлено, что критиканы проявляют нелепую поспешность и пристрастны в своих недавних суждениях. На основании чего герцог считал, что Драгут разбит при Джербе, – не так уж важно. Главное в том, что разгром последовал очень скоро и был столь полным, что адмирала можно считать оправданным.
Один смелый вельможа из свиты императора насмешливо заметил, что участие герцога Мельфийского в событиях у Ла-Молы явно преувеличено.
Император обратил к нему свое длинное мертвенно-бледное лицо.
– Единственное преувеличение, которое я усматриваю, – произнес он, заикаясь, – это ваша мысль о том, что капитан Адорно ищет, кого бы ему увенчать теми лаврами, которые он сам заслужил. Это, сеньор, нечто из области столь высоких помыслов, какие не могут быть присущи человеку, и, следовательно, как сказал бы Евклид, это абсурд. К тому же, – добавил Карл, – Ла-Мола – это триумф Дориа, так как победы добился его подчиненный. И в некотором смысле это и мой триумф, так как адмирала назначил я.
После столь прозрачного намека даже дель Васто не рискнул бы раздражать императора заявлением, что победу при Маоне принесло не участие в битве Дориа, а его отсутствие. Он знал нравы света и кое-что о нравах королей и понял, что стоять на своем сейчас значило бы вызвать неудовольствие императора и в конечном итоге настроить его против Просперо. Так что ради своего друга он перестал оспаривать ту долю участия в победе, которую его величество приписывал Андреа Дориа.
Знай Андреа Дориа о том мнении, которое император составил себе о его действиях, это помогло бы ему (возможно, но не обязательно) избавиться от мучений уязвленной гордыни, столь глубоких, что, казалось, он никогда не сможет освободиться от них.
В тот самый день, когда Просперо дал бой Драгуту у Маона, из Неаполя на быстроходном галиоте прибыл мессир Паоло Караччоло, доставивший на императорский корабль послание вице-короля.
Мессир Караччоло, баловень судьбы, был молод, храбр и насмешлив. Из-за этого он редко щадил чувства других людей. То, как он держался, передавая послание принца, объяснялось испытываемым им злорадством. Высокий, красивый мужчина, румяный, с золотистыми волосами, в роскошной одежде – коротком вычурном алом камзоле по венецианской моде, – он легко и непринужденно ступил на борт адмиральской галеры в тот миг, когда герцог и его племянники садились обедать.
– Его высочество принц Оранский, – объявил посланник, – шлет свое приветствие вашей светлости и спрашивает: что задерживает вас у залива Сирт?
Трое сидящих вскочили, и на посланника уставились три пары глаз, как бы вопрошая, не сумасшедший ли он.
Синьор Андреа громко повторил вопрос Караччоло:
– Что меня задерживает?..
– Ради бога… – пробормотал Джаннеттино.
– Что меня задерживает? – повторил адмирал.
– Да, принц спрашивает именно об этом, – жеманно произнес посланник.
– Но, синьор… – в голосе Андреа слышалось удивление, смешанное с возмущением, – разве мое требование прислать войска не дошло до Неаполя? Войска, которые должны высадиться на том берегу Джербы?
– Ах, это? Это же было три недели тому назад, когда Драгут еще был в бухте.
– Когда он был в бухте?
– Может быть, – предположил Филиппино, испепеляя посланника взглядом, – вы скажете, где он находится сейчас?
– Синьор, я не могу сказать точно. Я знаю лишь, где его нет. В бухте Джербы.
– Его нет на Джербе? – спросил адмирал. Сердито воззрившись на щеголя, он пожал грузными плечами. – Вы, наверное, с ума сошли. Вы просто безумец.
Джаннеттино повел себя необычно. Он рассмеялся, воздел руки горé, как бы взывая к небесам, а затем шлепнул себя ладонями по бокам.
– Вот так! – воскликнул он.
Филиппино холодно спросил:
– А может, вы не от принца прибыли, синьор? Может, вы просто шутник?
Раздраженный, мессир Караччоло заявил:
– Как это невежливо! У меня есть письма, которые все подтвердят. Вы будете извиняться, когда прочтете их. Там написано, что десять дней назад Драгут-рейс ограбил побережье Корсики.
– Это невозможно. Это ложь! – взвыл адмирал.
– Да нет же, это факт!
– Какой-нибудь другой пират назвался его именем, – предположил Филиппино.
Но Караччоло настаивал, что это был, несомненно, сам Драгут.
– Следовательно, – закончил он, – десять дней назад его уже не было на Джербе. Если он вообще когда-либо там был.
– Вообще там был?.. – К лицу адмирала прилила кровь. – Разве я не запер его в этой лагуне? Разве я не сижу здесь и не сторожу его день и ночь? Как он мог оттуда выйти?
– Мусульмане говорят, – промурлыкал мессир Караччоло, – что по воле Аллаха может случиться все, что угодно. Если вы так уверены, что Драгут там, то я не менее вашего уверен в том, что его там нет. От вас ждут объяснений, синьор. А я не сомневаюсь, что вы сможете смягчить гнев, который вызвали у его императорского величества.
– Давайте ваши бумаги! – крикнул раздраженный адмирал и нетерпеливо схватил протянутые ему письма.
Мессир Караччоло уселся, обмахиваясь беретом.
– Мне говорили, что у генуэзцев плохие манеры. А я не верил!
Никто из моряков не обратил внимания на его наглость. Им и без этого было о чем подумать.
Адмирал разложил лист, племянники стали по обе стороны от него, и все углубились в чтение. Филиппино стал похож на человека, у которого остановилось сердце. Джаннеттино выпятил челюсть, и его маленький женственный рот искривился в горькой усмешке. Дело было в том, что он уже целую неделю твердил, что в тишине и безмолвии, царящих в бухте, есть нечто подозрительное, как и в том, что Драгут прекратил ведшиеся там земляные работы. Джаннеттино даже настаивал на том, что следует войти в бухту и проверить, как там обстоят дела, но дядя строго запретил ему идти под огонь корсара.
– Тем самым ты сделаешь именно то, чего он и дожидается, – говорил адмирал. – Ведь Драгут хитер как лиса и рассчитывает на то, что мы окажемся дураками. Надо дождаться прибытия сухопутных войск, а пока притворяться спящими. Мы не попадемся на его удочку.
– Если только не обманем сами себя, – возражал Джаннеттино.
– А что может делать Драгут?
– Хотел бы я знать… Я костями чувствую, что тут какой-то подвох.
– Костями чувствуешь? – В голосе адмирала звучала явная насмешка. – Я скорее поверю своим мозгам, чем твоим костям, Джаннеттино!
Однако теперь, когда они прочитали письмо, оказалось, что эти самые презренные кости вдруг проявили необычайную сообразительность.
– Ну вот! – вскричал Джаннеттино. – А что я говорил вам все эти дни?
Адмирала мало что могло рассердить, но эти слова вывели его из себя. Во взгляде, которым он одарил племянника, сверкнула такая злоба, какой Джаннеттино не мог даже представить себе.
– Догадка дурака иногда выявляет истину, скрытую от мудреца, но кто обращает внимание на догадки дурака?
Затем, изменив тон и подавив вспышку безумия, адмирал учтиво и сдержанно обратился к посланнику:
– Это письмо, синьор… – он запнулся, – объясняет все.
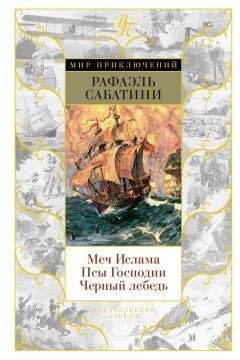

![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)

