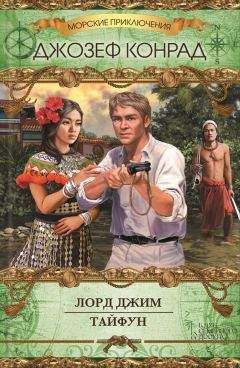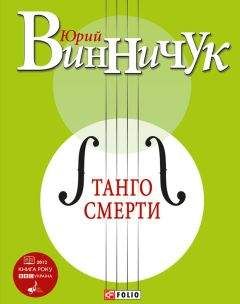Глава IV
Месяц спустя, когда Джим в ответ на прямые вопросы пытался честно рассказать о происшедшем, он заметил, говоря о судне:
– Оно прошло через что-то так же легко, как переползает змея через палку.
Сравнение было хорошее. Допрос клонился к освещению фактической стороны дела, разбиравшегося в административном суде одного восточного порта. С пылающими щеками Джим стоял на возвышении для свидетелей в прохладной высокой комнате; большие пунка[3] тихонько вращались вверху над его головой, а снизу смотрели на него глаза, в его сторону повернуты были лица – темные, белые, красные, – лица внимательные, словно все эти люди, сидевшие на узких, рядами поставленных скамьях, были порабощены чарами его голоса. А голос его звучал громко, и Джиму он казался жутким, – то был единственный звук, слышимый во всей вселенной, ибо отчетливые вопросы, исторгавшие у него ответ, как будто складывались в его груди, – тревожные, болезненные, острые и безмолвные, как жуткие вопросы совести. Снаружи пылало солнце, а здесь вызывал дрожь ветер, нагнетаемый большими пунка, бросало в жар от стыда, кололи острые, внимательные глаза. Лицо председателя суда, гладко выбритое, бесстрастное, казалось мертвенно-бледным рядом с красными лицами двух морских асессоров[4]. Свет из широкого окна под потолком падал сверху на головы и плечи этих трех человек, и они отчетливо выделялись в полумраке большой комнаты, где аудитория словно состояла из теней с остановившимися расширенными глазами. Им нужны были факты. Факты! Они требовали от него фактов, как будто факты могут объяснить все!
– Придя к заключению, что вы натолкнулись на что-то – скажем, на обломок судна, наполовину погруженный в воду, – ваш капитан приказал вам идти на нос разузнать, не получены ли какие-нибудь повреждения. Считаете ли вы это вероятным, принимая во внимание силу удара? – спросил заседатель, сидевший слева.
У него была жидкая бородка в форме подковы и выдающиеся вперед скулы; опираясь локтями о стол, он сжимал свои волосатые руки и глядел на Джима задумчивыми голубыми глазами. Второй асессор, грузный мужчина с презрительной физиономией, сидел, откинувшись на спинку стула, и, вытянув левую руку, барабанил пальцами по блокноту. Посередине председатель в широком кресле склонил слегка голову на плечо и скрестил на груди руки; рядом с его чернильницей стояла стеклянная вазочка с цветами.
– Нет, не считаю, – сказал Джим. – Мне велено было никого не звать и не шуметь, чтобы избежать паники. Эту предосторожность я счел разумной. Я взял одну из ламп, висевших под тентом, и отправился на нос. Открыв люк в носовое отделение переднего трюма, я услыхал плеск. Тогда я спустил лампу, насколько позволяла веревка, и увидел, что носовое отделение наполовину залито водой. Тут я понял, что где-то ниже ватерлинии образовалась большая пробоина. – Он приостановился.
– Так… – сказал грузный асессор, с мечтательной улыбкой глядя на блокнот; он все время барабанил пальцами, бесшумно прикасаясь к бумаге.
– В тот момент я не думал об опасности. Должно быть, я был немного взволнован: все это произошло так спокойно и так неожиданно. Я знал, что на судне нет другой переборки, кроме предохранительной, отделяющей носовую часть от переднего трюма. Я пошел назад доложить капитану. У трапа я столкнулся со вторым механиком; он как будто был оглушен и сообщил мне, что, кажется, сломал себе левую руку. Опускаясь вниз, он поскользнулся на верхней ступеньке и упал в то время, как я был на носу. Он воскликнул: «Боже мой! Эта гнилая переборка через минуту рухнет, и проклятая посудина вместе с нами пойдет ко дну, словно глыба свинца». Он оттолкнул меня правой рукой и, опередив, взбежал по трапу, крича на бегу. Я следовал за ним и видел, как капитан на него набросился и повалил на спину. Бить его он не стал, а наклонился к нему и стал сердито, но очень тихо что-то ему говорить. Думаю, капитан его спрашивал, почему он, черт возьми, не пойдет и не остановит машину, вместо того чтобы поднимать этот шум. Я слышал, как он сказал: «Вставай! Беги живей!» – и выругался. Механик спустился с мостика и обогнул застекленный люк, направляясь к трапу машинного отделения на левом борту. На бегу он стонал…
Джим говорил медленно; воспоминания были удивительно отчетливы; для сведения этих людей, требующих фактов, он мог бы, как эхо, воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось вспыхнувшее было возмущение, он пришел к тому выводу, что лишь мелочная точность рассказа может выявить подлинный ужас, скрывавшийся за жутким ликом событий. Факты, какие так сильно хотелось узнать этим людям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали свое место во времени и пространстве – для их существования требовались двадцать семь минут и пароход вместимостью в тысяча четыреста тонн; они составляли нечто целое, с определенными чертами, оттенками, сложным аспектом, который улавливала зрительная память, но помимо этого было и что-то иное, невидимое – дух, ведущий к гибели, – словно злобная душа в отвратительном теле. И это ему хотелось установить. Это происшествие не входило в рубрику обычных дел, всякая мелочь имела величайшее значение, и, к счастью, он помнил все. Он хотел говорить во имя истины, – быть может, также ради себя самого; речь его текла обдуманно, а мысль металась в сжатом кругу фактов, обступивших его, чтобы отрезать от всех остальных людей; он походил на животное, которое, очутившись за изгородью из высоких кольев, бегает по кругу, обезумев в ночи, ищет слабое местечко, какую-нибудь щель, дыру, куда можно пролезть и спастись. Эта напряженная работа мысли заставляла его время от времени запинаться.
– Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику; на вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся, а когда я с ним заговорил, он наткнулся на меня, словно был совершенно слеп. Ничего определенного он мне не ответил. Он что-то бормотал про себя; я разобрал несколько слов – «проклятый пар!» и «дьявольский пар!» – что-то о паре. Я подумал…
Джим становился непочтительным; вопрос, возвращающий к сути дела, оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватили безграничное уныние и усталость. Он приближался к этому… приближался… и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать – да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Красивый, высокий, с юношескими мрачными глазами, он стоял, выпрямившись на возвышении, а душа его корчилась от боли. Ему пришлось ответить еще на один вопрос, по существу, на вопрос ненужный, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус, как после глотка морской воды. Он вытер влажный лоб, провел языком по пересохшим губам, почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине.