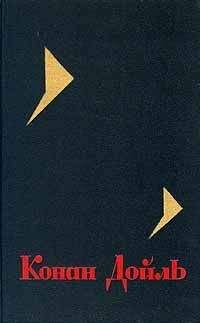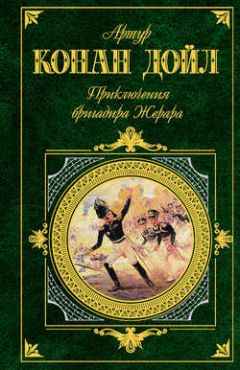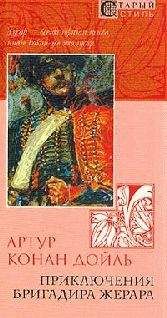Артур Конан Дойль
Женитьба бригадира
Расскажу я вам, друзья мои, о давно прошедших днях, когда я еще только добывал себе славу, сделавшую мое имя столь знаменитым. Среди тридцати офицеров Конфланского гусарского полка я ничем особенным не выделялся. Представляю себе, каково было бы их удивление, узнай они, что молодому лейтенанту Этьену Жерару предстоит блестящая карьера, что он дослужится до командира бригады и получит крест из рук самого императора. Если вы окажете мне честь и посетите мой домишко, — я покажу его вам, вы ведь знаете этот чистенький белый домик, увитый виноградом, стоящий на отшибе на берегу Гаронны.
Люди говорят про меня, что я никогда не знал страха. Вы, верно, слышали об этом не раз. Из глупой гордости я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, на старости лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды. Ее боится только трус. Потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, а волосы вставали дыбом, что и мне известно, как душа уходит в пятки и как задают стрекача. Вы поражены? Зато, случится вам когда-нибудь дрогнуть, вспомните, что даже и Этьену Жерару бывало страшно, и вам сразу станет легче. А теперь послушайте, в какую я однажды попал передрягу, а заодно и обзавелся женушкой.
В те поры Франция ни с кем не воевала, и мы, конфланские гусары, все лето стояли лагерем в нескольких милях от нормандского городка Лез Андели. Само по себе местечко это не очень веселое, но где гусары, там и веселье, так что время мы проводили недурно. За долгие годы странствий потускнели воспоминания, а все же стоит мне произнести «Лез Андели», как встают перед глазами громадный полуразрушенный замок, большие яблоневые сады и, самое главное, прекрасный пол! Ах, что за прелестные создания эти нормандские девушки! Краше нет в целом свете, да и мы были мужчины, можно сказать, хоть куда. Словом, в то замечательное солнечное лето свиданий было не счесть. О молодость, красота, доблесть, как разглядеть вас сквозь туман тусклых, унылых лет! Порой славное прошлое ложится мне на сердце камнем. Нет, сэр, в вине таких мыслей не утопить. Болит-то душа. А вино — что? Оно приносит лишь телесную радость. Но уж коли угощают… не откажусь.
Прелестней всех девушек в тех краях была Мари Равон. До чего мила да пригожа, будто самой судьбой для меня предназначена. Была она из рода Равонов, прадеды ее пахали землю в Нормандии еще со времен, когда герцог Вильгельм отправился покорять Англию. Стоит мне и теперь закрыть глаза, Мари встает передо мной: щеки смуглые, как лепестки мускатной розы; взгляд карих глаз нежен и в то же время смел; волосы, черные как смоль, будят волнение в крови и в стихи просятся; а фигурка — точно молодая березка на ветру. А как она отпрянула, когда я впервые хотел обнять ее, — горяча была и горда, всякий раз ускользала, сопротивлялась, боролась до последнего рубежа, отчего капитуляция бывала сладостней во сто крат. Из ста сорока женщин… Но как их сравнить, если все были по-своему совершенства!
Вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? Но на то была веская причина, друзья мои, ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале. Ипполит Лезер, к примеру, провел у Равонов два воскресенья подряд. Так что же? Даю голову на отсечение, что он до сих пор хромает от пули, засевшей у него в колене, если, конечно, он еще жив. Да и бедняга Виктор до самой своей гибели под Аустерлицем носил мою отметину. Очень скоро все поняли, что от Мари Равон лучше отступиться. В нашем лагере поговаривали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре, чем слишком часто появляться в усадьбе Равонов.
А теперь позвольте мне кое-что уточнить. Собирался ли я жениться на Мари? О, друзья мои, женитьба не для гусара! Сегодня он в Нормандии, а завтра — средь холмов Испании или болот Польши. Что ему делать с женой? Каково им будет обоим? Он станет думать, какое горе причинит жене его гибель, и былую храбрость сменит рассудительность, а она будет со страхом ждать очередную почту — вдруг придет известие о невозместимой утрате. Правильно ли это, разумно ли? Что остается гусару? Погревшись у камелька, марш-марш вперед, и добро, коли скоро будет ночевка под крышей, а не у бивачного костра. А Мари? Хотела ли она, чтобы я стал ее мужем? Она прекрасно знала: затрубят серебряные горны — и прощай семейная жизнь! Уж лучше держаться отца с матерью и родных мест — здесь, среди садов, не расставаясь с мужем-домоседом и не теряя из виду замка Ле Гайяр, будет она мирно коротать свои дни. А гусар пусть снится по ночам. Но мы с Мари о будущем не думали: день да ночь — сутки прочь, как говорится. Правда, отец ее, полный старик с лицом круглым, как яблоки, которые росли в его садах, и мать, худая робкая крестьянка, порой намекали, что пора бы мне объяснить свои намерения, хотя в душе и не сомневались, что Этьен Жерар — человек честный, что дочь их совершенно счастлива и ничто дурное ей не грозит. Так обстояли дела, пока не пришел тот вечер, о котором я хочу рассказать.
Однажды в воскресенье я выехал верхом из лагеря. Вместе с несколькими однополчанами, которые тоже ехали в деревню, мы оставили лошадей у гостиницы. Оттуда до Равонов надо было идти пешком через большое поле, простиравшееся до самого порога их дома. Не успел я сделать несколько шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы.
— Послушайте, лейтенант, — сказал он, — хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучше дорогой.
— Эдак я дам круг с милю, а то и больше.
— Верно. Но мне кажется, так будет благоразумней, — ухмыляясь, сказал он.
— Почему? — спросил я.
— Потому что в поле пасется бык английской породы.
Если бы не его гнусная ухмылка, я бы, наверно, послушался. Но предупредить об опасности, а потом ухмыльнуться… этого я со своим гордым нравом снести не мог. Я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке английской породы.
— Пойду напрямик, — сказал я.
Однако, выйдя в поле, я понял, что поступил опрометчиво. Поле было очень большое, и, удаляясь от гостиницы, я ощущал себя утлым суденышком, рискнувшим выйти в открытое море. Со всех сторон поле было огорожено. Впереди стоял дом Равонов, изгороди подходили к нему вплотную справа и слева. Со стороны поля был виден черный ход и несколько окон, но все они, как и в других нормандских домах, были забраны решетками. Единственным спасением был черный ход. И я устремился к нему, не роняя достоинства, приличествующего солдату, но тем не менее развив такую скорость, на какую только способны ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность. Зато нижняя — проворство и настороженность.