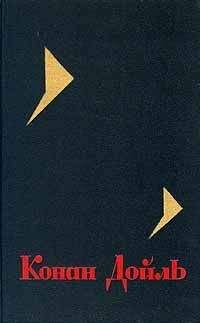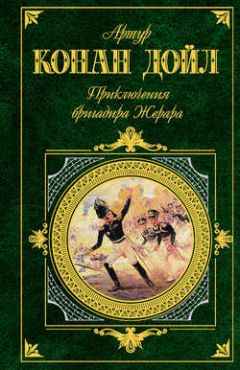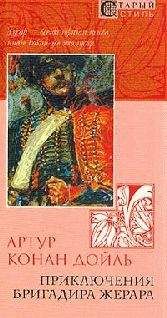Я уже почти достиг середины поля, как вдруг справа от себя увидел быка. Он рыл копытами землю под большим буком. Я не повернул головы, даже виду не показал, что заметил опасность, а сам искоса с опаской следил за быком. Возможно, он был в благодушном настроении, а может, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни шага. Приободрившись, я взглянул на открытое окно спальни Мари, которое было как раз над черным ходом, — вдруг из-за шторы смотрят ее милые карие глазки. Я стал помахивать тросточкой, сбавил шаг, сорвал первоцвет и запел лихую гусарскую песенку, чтобы подразнить этого зверя английской породы, — пусть любимая видит, что опасность мне нипочем, если наградой — свидание. Мое бесстрашие привело быка в замешательство, я дошел до черного хода, толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской чести.
Что для гусара опасность, когда его ждет свидание с любимой! Да карауль ее дом хоть все быки Кастилии, разве я остановился бы на полпути? Ах, вовек не вернуться тем счастливым дням юности, когда ног под собой не чуешь, живя в мире сладостных грез! Мари почитала и любила меня за храбрость. Прижавшись раскрасневшейся щечкой к шелку моего доломана, глядя мне в лицо изумленными глазами, сиявшими от любви и восхищения, она благоговейно внимала рассказам, в которых ее возлюбленный выступал во всем блеске своих достоинств.
— И сердце ваше ни разу не дрогнуло? Вы никогда не знали страха? — спрашивала она.
Такие вопросы вызывали у меня только смех. Разве место страху в душе гусара? Хоть я был еще очень молод, подвигам моим уже не было числа. Я рассказал ей, как во главе своего эскадрона ворвался в каре венгерских гренадеров. Обнимая меня, Мари содрогнулась. Еще я рассказал ей, как ночью переплыл на коне Дунай, доставляя донесение Даву. Откровенно говоря, то был вовсе не Дунай, да и глубина не такая, чтобы коню моему пришлось плыть, но когда тебе двадцать и ты влюблен, как не приукрасить рассказ. О многих подобных случаях я рассказывал ей, а ее милые глазки раскрывались от изумления все шире и шире.
— Даже в мечтах своих, Этьен, — сказала она, — я никогда не представляла себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Мари, имеющая такого возлюбленного!
Вы понимаете, с каким чувством я бросился к ее ногам, бормоча, что я счастливейший человек на свете… я, нашедший ту, которая меня понимает и ценит.
Отношения наши были прелестны и слишком утонченны, чтобы их могли понять более грубые натуры. Однако ее родители, само собой разумеется, имели на этот счет свое мнение. Я играл в домино со стариком, помогал распутывать пряжу его жене, но никак не мог убедить их, что посещаю их ферму трижды в неделю только из любви к ним. В конце концов объяснение стало неизбежным, и случилось оно именно в тот вечер. Мари, несмотря на ее милое негодование, удалили в спальню, а я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее.
— Одно из двух, — сказали они с крестьянской прямотой, — или вы даете слово, что обручитесь с Мари, или вы ее никогда больше не увидите.
Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но они стояли на своем. Я ссылался на свою карьеру, а они эгоистично не хотели думать ни о чем, кроме своей дочери. Я оказался поистине в трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей Мари, а с другой к чему жениться молодому гусару? Наконец, когда меня уже совсем загнали в угол, я умолил их оставить все, как было, хотя бы до завтра.
— Я поговорю с Мари, — сказал я. — Я поговорю с Мари без промедления. Главное для меня — ее счастье.
Мои слова не удовлетворили старых ворчунов, но возразить они ничего не могли. Вскоре они пожелали мне спокойной ночи, и я отправился в гостиницу. Я вышел в совершенном расстройстве чувств в ту же дверь, в которую вошел, и услышал, как ее заперли за мной на засов.
Я шагал по полю, задумавшись, — из головы не шли доводы стариков и мои ловкие ответы. Как мне быть? Я обещал посоветоваться с Мари без промедления. Что мне сказать, когда я увижусь с ней? Должен ли я капитулировать перед ее красотой и навсегда распрощаться с военной карьерой? Если бы Этьен Жерар перековал свой меч на орало, то это было бы поистине невосполнимой утратой для императора и Франции. Или я должен ожесточиться сердцем и отказаться от Мари? А разве нельзя совместить все: быть счастливым супругом в Нормандии и храбрым солдатом в прочих местах? Все эти мысли теснились в моей голове, как вдруг какой-то шум заставил меня поднять голову. Из-за облака выглянула луна, и прямо перед собой я увидел быка.
Он и под буком показался мне большим, но тут передо мной стояла просто громадина. Он был весь черный. Голова опущена, свирепые, налитые кровью глаза сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние ноги зарылись в землю. Такое чудовище не привидится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону.
Я оглянулся и, к своему отчаянию, увидел, что зашел в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была гостиница, но между нею и мной находился бык. Если этот зверь увидит, что я его не боюсь, он, наверное, уступит мне дорогу. Я пожал презрительно плечами. И даже свистнул. Бык подумал, что я вызываю его на бой и прибавил шагу. Я бросил на быка бесстрашный взгляд, а сам давай быстро-быстро пятиться. Молодой, подвижный человек способен даже бежать задом наперед, обратив лицо противнику и храбро улыбаясь ему. На бегу я грозил быку тросточкой. Наверно, благоразумней было бы сдержать свой пыл. Бык счел это вызовом, хотя бросать ему вызов мне и в голову не приходило. Это было роковое недоразумение. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку.
Вы когда-нибудь видели, как нападает бык, друзья мои? Это — чудовищное зрелище. Вы думаете, наверно, что он припустил рысью или даже галопом. Это бы еще ничего… Нет, он делал прыжки, один страшнее другого. Я не боюсь человека. Когда я имею дело с человеком, то чувствую, что благородство моей позы, смелая непринужденность, с которой я встречаю противника, уже сами по себе обезоруживают. Я владею теми же приемами, что и он, и поэтому мне нечего его бояться. Но когда тебе предстоит сразиться с тонной разъяренной говядины — это совсем другое дело. Тут не поспоришь, не успокоишь, не завоюешь расположения… Никакие уговоры не помогут. Что этому зверю до моего горделивого самообладания? С живостью, свойственной моему уму, я оценил обстановку и решил, что на моем месте никто, даже сам император, не мог бы удержать позиции. Значит, оставалось одно — бежать.