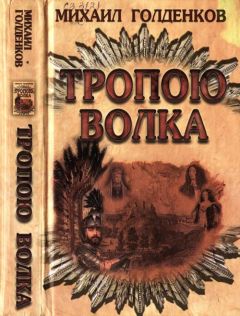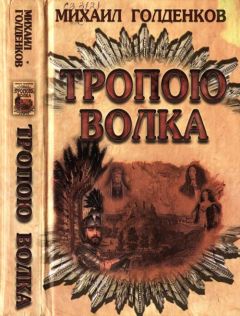Кажется, нет лучше в мире запаха, чем этот запах крепкого договора, запах надежной клятвы, запах помощи и спасения. Вновь ставятся государственные печати… За спиной Де ла Гарды возвышается ряд шведских офицеров в белой форме на фоне зеленых кафельных плиток большого камина. Их светло-серые полукруглые шляпы с короткими тульями и полями, похожие на перевернутые шампиньоны, одинаковая белоснежная форма с черными полосками застежек так восхищали Кмитича! Вот они, настоящие солдаты, уверенные и организованные, дисциплинированные и обученные!.. Кмитичу всегда импонировали войска, где присутствует строгая единая форма одежды, как у швейцарцев, шотландцев или шведов. Такая армия напоминала ему хорошо отлаженный станок, работающий четко и бесперебойно, не то что разномастная армада тех же поляков, немцев или литвин.
Великий гетман и губернатор Ливонии, улыбаясь, отвешивают друг другу и окружающим поклоны. Все аплодируют. Музыканты играют торжественный гимн. Кмитичу хочется найти символизм в истории города, и он его находит — да, здесь в 1596 году вышла в свет первая книга русской грамматики «Грамматика словенска», здесь печатался полоцкий доктор наук Францыск Скорина, русский первопечатник… Здесь многое начиналось, что дало хорошие плоды…
— Гуцдаг, — слышит Кмитич, как здороваются шведские офицеры с привлекательными литвинками.
— Talar du svenska? Mitt name är Svensson[31], - расшаркивался высокий блондин в белой форме перед Александрой Биллевич…
В первом чтении первого варианта Унии великим князем Великого княжества Литовского объявляется шведский король при сохранении всех прав, равенств и свобод литвинов… Виленская шляхта бурно выражала восторг и согласие с подписанным документом. В Браславе акт подданства Швеции уже подписали тридцать восемь полоцких и сто шестнадцать ошмянских шляхтичей. К ним присоединилось православное и протестантское духовенство. Католические же священники высказывали недовольство — ведь Литва официально порывала с Римом, Ватиканом! Но в виленском сейме все равно не было ни единого католика, чтобы встать и сказать «вето». Кмитич чувствовал, что наступает поворот в войне, и чувства его не обманывали — поворот действительно наступал, но… как быстро он произойдет? Цепь каких событий тому предстоит? Что ждало самого пана Кмитича? Полковник даже не догадывался.
И теперь уже странно, тревожно было на душе Самуэля Кмитича. Его лоб блестел от холодного пота, хотя духоты зала он не ощущал. Что-то шло не так. Его шестому чувству было так же неловко, как неудобно было его ногам в модных туфлях, которые он никогда бы не обул, если бы не Богуслав. Да и эта шляпа со страусиными черными перьями, которую он нервно поправлял на голове — тоже не его гардероб. Но что же все-таки его так встревожило?
Кмитич не мог не думать о том, почему все повернулось так, что приходится разрывать отношения с Польшей. Почему основная армия шведов направилась не к Вильне, когда враг почти у ворот литвинской столицы, а туда, где им никто не противостоит? Под самым носом, в Сморгони ставка царя! Что сейчас делает и что думает Михал Радзивилл в своем Бельском замке, куда он удалился в полном смятении?
Хотел ли Кмитич полной независимости от Польши? Несомненно. Перед его глазами всплывал эпизод почти десятилетней давности, когда он приехал в Краков, чтобы закрепить изучение польского языка. Именно в старую польскую столицу Краков, где звучит чистая польская речь, его послали родители, а не в Варшаву, где, по их мнению, польский язык испортили своим шепелявым акцентом балтские мазуры и да-дошане. И вот там, на улице старого доброго Кракова, прямо недалеко от костела шестнадцатилетний Кмитич с изумлением наблюдал, как между собой дерутся польские королевские солдаты. Точнее, трое дрались с одним. Тот выхватил саблю, и драка переросла в нешуточный бой.
— Что же они делают! Это нечестно! — бросился было Кмитич на подмогу, но два его польских товарища-студента крепко удержали Кмитича за руки:
— Не суйся! Мы не знаем, кто из них прав!
— Не правы те, которые втроем напали на одного! — краснел от натуги Кмитич, пытаясь вырваться из крепких рук удерживающих его поляков. В этот самый момент бой был уже закончен: несчастный солдат пал на землю, проткнутый насквозь шпагой. Тут же, как из-под земли, выросли полицейские. Одному раненому солдату перевязывали руку, но проткнутый шпагой оказался уже мертв. К великому изумлению Кмитича полицейские, поговорив о чем-то с солдатами, отпустили их.
— Не возмущайся, — друзья-поляки уводили Кмитича прочь от злополучного места, — это и есть наша польская вольность! Бой был честный!
«Разные же у нас понятия о честности!» — в сердцах думал в тот момент Кмитич. Убийство солдата до глубины души тронуло его юношеское сердце, и он, даже учитывая принцип честности дуэлей, не мог взять в толк, почему же убийц так просто отпустили. Вот с той поры оршанский князь и стал думать о том, что хорошо бы не оглядываться постоянно на поляков — а как там у них… Теперь эта мечта осуществлялась. Но… Кмитич почему-то вновь чувствовал себя неловко. «Свой литовский король и полная независимость от Польши — дело нужное, — думал он, — не так, не в таких условиях… Получается, что мы бросаем друг друга в самую трудную минуту, не сообща, а порознь сражаемся каждый со своим врагом!» Нынешняя ситуация с Унией так же возмущала Кмитича, как и тот нечестный поединок на улицах Кракова… Почему? Почему, несмотря на кривую улыбку, тревожно бегают глаза у Гонсевского? Почему нет никого от Хмельницкого? Черт с ним, с Яном Казимиром, но перед глазами Кмитича стояли лица других поляков: Козловского, Мада-каского, плечом к плечу с которыми он бился в Смоленске, тех, кто погиб там, защищая этот не такой уж и родной для них город… В чем они-то виноваты?
Странное было ощущение: словно с его любимого дуба Дива кто-то срезал огромную ветвь, самую большую и раскидистую, и она с шумом рухнула в траву на глазах Кмитича. Умом Кмитич понимал, что Польша сама находится во власти рока, которому не в силах противостоять, что король Польши уже практически не король, но душа все равно была не на месте. «Ничего, все будет хорошо. Вот разобьем царя — и все будет как раньше», — успокаивал сам себя Кмитич.
Впрочем, вечер закончился для Кмитича на приятной, несколько оригинальной ноте — в хоромах пани Биллевич, первой красавицы в Кейданах, Россиенах, Полоцке, а теперь и в Виль-не. Высокая, длинноногая, с тонкой упругой шеей, осиной талией, красивым лицом с удивительно правильными чертами, Александра Биллевич казалась созданной для позирования перед мольбертом художника. «Не девка, а статуя», — шептались придворные дамы, вероятно, намекая, что за красотой пани Биллевич нет ничего. Но то была неправда. Эта двадцатилетняя девушка притягивала мужчин не столько своей красотой, сколько абсолютно нестандартным поведением — независимым, раскованным и по-мужски решительным. Рано став сиротой, Александра привыкла во всем брать инициативу в свои руки, и это закалило ее в борьбе за собственное место под солнцем, не очень баловавшим род Биллевичей в последние годы. К тому же оршанский полковник находил молодую представительницу Биллевичей чертовски привлекательной: большие карие глаза, чистые белки с голубоватым отливом, белая кожа лица, обрамленная боковыми локонами. Сами волосы цвета черного кофе, мелко закрученные, были подняты вверх и закреплены шпильками («Прическа как у Иоанны!» — отметил Кмитич). Ее чувственные губы и прямой носик с едва заметной благородной горбинкой у основания просто пленили Кмитича.