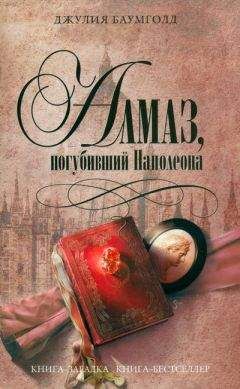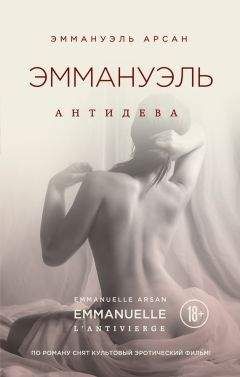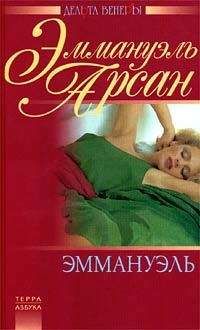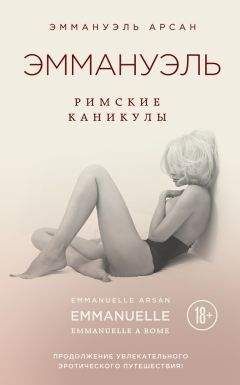Однажды утром я положил руку на плечо Анриетты, как делал столько раз за шестьдесят два года, и впервые обнаружил, что оно твердое и холодное.
На ее могиле я высек надпись: «Я жду здесь того, чье счастье я составляла, и уверена, что он очень хочет прийти». Тогда я ощутил, что призраки моей жизни шепчутся у меня в гостиной, поджидая меня, — обезглавленные, солдаты, павшие на поле брани, моя утраченная дочь Елена, Анриетта и мой друг де Волюд, — последняя долгая смертельная битва, та, ради которой я жил.
Потом меня подкосила неудачная сделка с землей. Мне пришлось продать драгоценности, которые Жозефина подарила Анриетте, когда императрица стала крестной матерью моего второго сына Бартелеми. К тому же зрение у меня еще ухудшилось, и мне пришлось отказаться от обязанностей депутата от Сен-Дени.
В это время некий молодой еврей, только что закончивший учебу, появился у моих дверей. Он услышал о моих недавних расспросах в связи с продажей моих драгоценностей и о «Регенте». И подумал, что мог бы помочь мне в моих попытках, потому что чувствовал себя в долгу перед императором. В конце концов, именно Наполеон сделал его народ гражданами этнических государств, которые были созданы им в Италии, в Австрии и в Германии. Завоевание Наполеоном Италии означало конец инквизиции и уничтожение гетто в Риме и Венеции, а также в Майнце и Франкфурте. Этот еврей предпочел остаться анонимным, а позже помог мне заполнить некоторые пробелы в истории камня, касавшиеся его народа. Он также помог мне продать драгоценности Анриетты одному из своих соплеменников. Я буду называть его Авраамом.
Я с трудом различал его лицо, но по очертаниям, по линии его плеч понял, что это человек высокого роста, а по выступающим костям на его молодой руке — что он худощав.
— Он страшно тощий, папа, — сказала мне Офрези, — и глаза у него такие разочарованные. Волос немного, потому что голова у него — один сплошной лоб, а одежда… ну, ведь вы держались за его рукав. Теперь я его починила. Он носит с собой свои еврейские книги и изучает их, когда у него есть хотя бы минутка.
Я не знаю его прошлого, а если бы знал, то, уважая его пожелания, никогда не рассказал бы.
Авраам — молодой человек этого времени — немного слишком жесткий и слишком полный романтизма, который и привел его сюда. Он говорит о «Фантастической симфонии» Берлиоза — о его опиоманах и ведьмовских шабашах — почти так же, как о своей религии. Я могу предположить, почему его так привлекают темы безнадежной одержимости.
Он был на балконе, откуда смотрел пьесу Гюго «Эрнани», когда вся публика свистела и топала, потому что никогда прежде не видела такой актерской игры. Он пришел сюда, веселый и взволнованный, и рассказал Офрези, как с балкона забрасывают веревочки с рыболовными крючками, чтобы зацепить парики буржуа. У него был и свой Сен-Симон, социалист, совсем другой, хотя и состоявший в отдаленном родстве с герцогом. Теперь он — мои глаза, он описывает танцы, в которых мужчины и женщины в обнимку кружатся по залу. Когда я танцевал, все в бальных залах ходили с важным видом, размеренными шагами, едва касаясь друг друга, перчатка к перчатке. И еще он рассказывает мне о высоких блестящих мужских шляпах и жестких воротничках, подпирающих подбородки. Мужчины носят теперь бороды, а некоторые надевают панталоны со штрипками, которые поддеваются под ступню, чтобы штанины были натянуты и облегали ногу, как наши кюлоты. Легкие кабриолеты мчатся по улицам, разбрызгивая грязь, и вообще все постоянно как-то меняется — не совсем понятно куда.
Однажды Авраам рассказал мне, что видел короля, круглого маленького человечка с паричком на голове, он шел по улице Риволи со своим знаменитым зеленым зонтиком.
— Здравствуйте, друг мой, — сказал довольно приветливо Луи-Филипп, обращаясь к Аврааму и протягивая ему руку в «грязной перчатке», которую он держит для представителей низших классов. Авраама это не тронуло, и он напомнил мне о том, как Луи-Филипп засадил в тюрьму художника Домье за то, что тот изобразил его в виде груши (груша означает того, кого легко одурачить).
Авраам прочел мне, как сын Наполеона, Римский король, маленький мальчик, которого я знал и который был прирожденным королем, умер от чахотки в Вене. Он стал герцогом Рейхштадтским и узником австрийских дворцов. Он, который, кашлянув, ожил при рождении, докашлялся до смерти в двадцать один год. После этой грустной новости я пролежал в постели до конца дня.
Офрези — ей было тогда двадцать два года — вела домашнее хозяйство и читала мне, когда Авраам не мог этого делать. Она вставала в пять часов и работала весь день, занимаясь розысками, перепиской и переперепиской, а также стряпала и прибиралась, потому что мы снова обеднели из-за моей неудачной земельной сделки. Именно тогда, когда «Регент» скрылся из глаз, я двинулся вперед в моей хронике.
Я был эмигрантом, я видел, как некоторые из нас смотрят на других свысока и заставляют их страдать — тогда я был «Феликсом» и выходил по вечерам в своей единственной застиранной рубашке и при титуле… — и тогда я утратил интерес ко всему, кроме самых необходимых вещей. До того мне не приходилось работать ради денег. У меня не осталось ни малейшего желания скользить по навощенным дворцовым паркетам. После моей земельной сделки я подсчитал, что за свою жизнь потерял восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот франков и пал жертвой пятидесяти двух краж. Этот болезненный список включает в себя и мои потери за карточной игрой, которая всегда велась в лучших домах — у де Люиней, у Люксембурга, у Монморанси.
Я потерял состояние, но я снова был очарован великолепием и судьбой бриллианта и тем, как он соответствует императору — особенно теперь, когда я вижу, что за ним (императором) последовало. (Как часто напоминает мне Авраам, с сентябрьскими законами мы снова живем под давлением цензуры, и только двести тысяч из тридцати пяти миллионов имеют право голоса.)
Когда-то император сердился на меня за то, что я пишу о мертвой вещи. Тогда мне нечего было ответить, но теперь я вижу то, что мог тогда лишь предполагать: вещи — это люди, которые владеют ими, и вещи больше людей, ибо могильный камень переживает человека, но, быть может, не его идеи.
И я был снова спасен. Один из руководителей либеральной партии убедил меня воспрянуть, и я был избран в Ассамблею.
Мой сын Эммануэль, став адвокатом, уехал в Лондон в 1835 году и видел, как герцог Веллингтон рассматривает собственное изображение в музее восковых фигур мадам Тюссо на Бейкер-стрит. Восковой герцог был помещен рядом с восковым императором. Рядом были карета Наполеона, его волосы, его зубная щетка и — страшно подумать — походная кровать, на которой он умер. Мой сын видел, как герцог рассматривает себя и императора, и хотя его так и подмывало сказать многое, ему удалось промолчать.