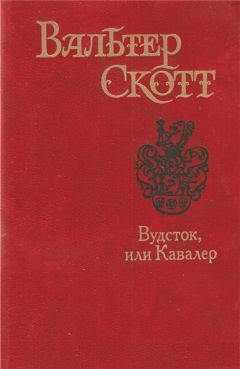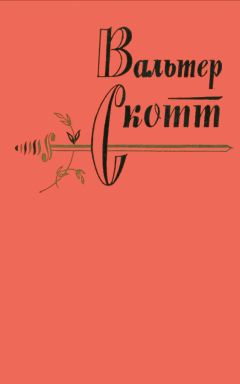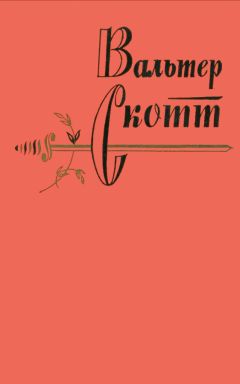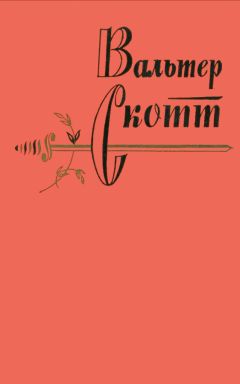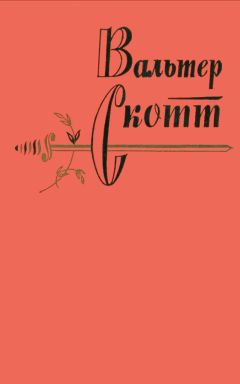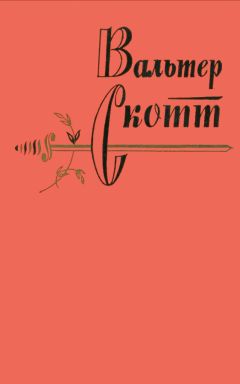Никогда не приходилось мне слышать ничего подобного по наглости! Уил Давенант — сын самого блестящего и лучшего поэта прошедших, настоящих и будущих времен! Но прошу прощения, племянник… Вы, я думаю, не любите театральных пьес.
— Нет, я вовсе уж не такой педант, каким вы хотите меня представить, дядя. В свое время я, может быть, слишком любил пьесы, да и теперь осуждаю их не все огульно или оптом, хоть и не одобряю всех их крайностей и преувеличений. Я не могу даже у Шекспира не видеть много такого, что противно приличиям и предосудительно для нравственности, много таких мест, где он высмеивает добродетель, восхваляет порок или, во всяком случае, скрашивает его безобразие. Я не думаю, что полезно, в особенности для молодежи обоего пола, читать эти прелестные стихи, где мужчины заняты только кровопролитием, а женщины — любовными интригами.
Эверард простодушно предполагал, что этими замечаниями только предоставит своему дяде подходящий предлог для защиты его любимого искусства, не обижая его возражением, столь мягким и умеренным.
Но здесь, как и в других случаях, он забыл, как упрям был его дядя в своих религиозных и политических воззрениях и в вопросах вкуса; легче было завербовать его в сторонники пресвитерианского управления страной или склонить к измене присяге, чем поколебать его веру в Шекспира. У достойного баронета была еще другая особенность в манере спорить, и Эверард, человек прямой и простодушный, верный религиозным принципам, которые в известной степени противоречили скрытности и притворству, принятым в обществе, никогда не мог хорошенько ее постичь.
Сэр Генри, зная свой горячий нрав, изо всех сил старался сдерживаться; иногда, хоть и сильно оскорбленный, он сохранял в споре внешнее спокойствие, пока волна чувств не поднималась в нем так высоко, что переливалась через искусственные преграды и сносила их; тогда он обрушивал на противника весь накопившийся гнев. Поэтому бывало так: он, как хитрый старый генерал, постепенно и в полном порядке отступал перед своим собеседником, оказывая такое умеренное сопротивление, что давал преследовать себя до определенного пункта, и тут, неожиданно и внезапно переходя в атаку всеми силами конницы, пехоты и артиллерии, непременно наносил противнику удар, если и не всегда мог его уничтожить.
Соответственно с этой тактикой, баронет, выслушав последнее замечание Эверарда, подавил свой гнев и ответил спокойным тоном, скрывавшим кипение его страстей:
— Несомненно, в наше несчастное время пресвитерианское среднее дворянство неопровержимо доказало свое смиренное, чуждое всяких претензий и тщеславия стремление к общественному благу; все теперь верят в искренность его сильнейшего предубеждения против таких пьес, где благороднейшие религиозные и добродетельные чувства — чувства, способные обратить на путь истинный самых закоснелых грешников и достойные уст умирающих святых и мучеников, — перемежаются иногда с непристойными шутками и прочими вольностями; и все это — следствие невежества и грубых вкусов нашего века; правда, эти вольности не мешают никому, кроме тех, кто старательно их выискивает, чтобы указывать на них и поносить то, что само по себе заслуживает величайшей похвалы.
Но в особенности желал бы я спросить своего племянника, знают ли эти даровитые люди, которые изгнали с церковных кафедр ученых мужей и мудрых священников англиканской церкви и теперь процветают на их месте, что такое вдохновение муз (если это нечестивое выражение не оскорбит полковника Эверарда), или они так же глупо и грубо недоброжелательны к изящной словесности, как и к человеколюбию и здравому смыслу?
По ироническому тону, которым была произнесена эта речь, полковник Эверард мог бы догадаться, какая буря бушевала в груди его дяди; он мог бы также судить о его состоянии по тому, что сэр Генри сделал особое ударение на слове «полковник», — этим званием, которое связывало племянника с ненавистной партией, он величал Эверарда только в минуты гнева, когда же они были в ладу, он обычно называл его племянником или просто Маркемом. Полковник отчасти понимал этот гнев и к тому же жаждал увидеть свою кузину; поэтому он ничего не ответил на отповедь дяди, которая закончилась как раз в тот момент, когда старый баронет спешился у дверей замка и вошел в зал в сопровождении своих спутников.
Тут появилась Фиби и получила приказание принести джентльменам что-нибудь выпить. Вудстокская Геба узнала Эверарда и приветствовала его почти неприметным реверансом, но оказала ему плохую услугу, когда самым невинным тоном спросила у баронета, не прикажет ли он позвать мисс Алису. В ответ ей прозвучало суровое «нет», и это неуместное вмешательство, казалось, еще усилило раздражение баронета против Эверарда за то, что он отзывался о Шекспире без должного почтения.
— Я бы все же настаивал, — сказал сэр Генри, возвращаясь к неприятному разговору, — если только бедному отставному солдату королевских войск пристало так обращаться к офицеру победоносной армии, на том, чтобы вы ответили, вызвало ли к жизни это смутное время, без конца посылающее нам святых и пророков, хоть одного поэта, столь одаренного и изящного, чтобы он мог затмить бедного старого Уила, который был оракулом и кумиром для нас, ослепленных и преданных всему земному роялистов?
— Конечно, сэр, — возразил полковник Эверард? — я знаю стихи, написанные другом республики, и тоже в драматическом роде; если оценить их беспристрастно, они могут поспорить даже с поэзией Шекспира и при этом свободны от напыщенности и грубости, которыми великий бард не гнушался для удовлетворения низменных вкусов своей варварской публики.
— В самом деле? — спросил баронет, с трудом подавляя гнев. — Я хотел бы познакомиться с этим шедевром поэзии. Можно узнать имя этого замечательного человека?
— Наверно, это Викерс или, может быть, Уизерс, — вставил мнимый паж.
— Нет, сэр, — возразил Эверард, — и не Дрэммонд из Хоторндена и не лорд Стерлинг. Но сами стихи подтвердят мои слова, если вы снисходительно выслушаете мою посредственную декламацию, — я ведь больше привык говорить перед отрядом солдат, чем перед любителями муз. Стихи написаны от лица дамы, которая заблудилась в дремучем лесу; ее застигла ночь, и вначале она говорит, что ей жутко, что она страшится чего-то сверхъестественного.
— Тоже пьеса, и автор круглоголовый! — с удивлением сказал сэр Генри.
— Во всяком случае, драматическое произведение, — ответил его племянник и просто, но с чувством начал декламировать стихи, теперь знаменитые, но в то время малоизвестные, потому что слава автора основывалась больше на его памфлетах и политических сочинениях, чем на поэзии, которой впоследствии суждено было его обессмертить: