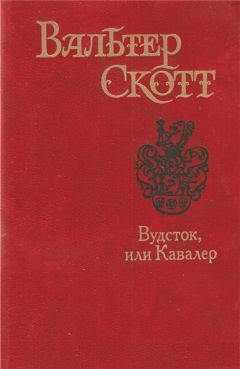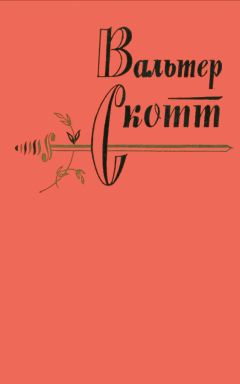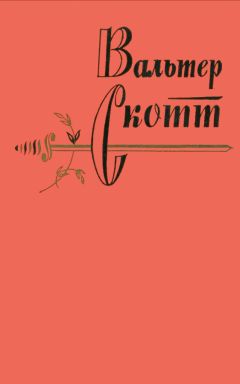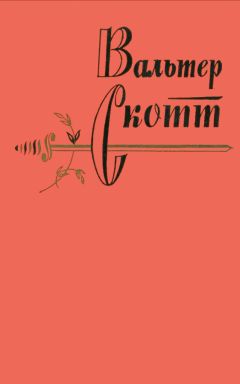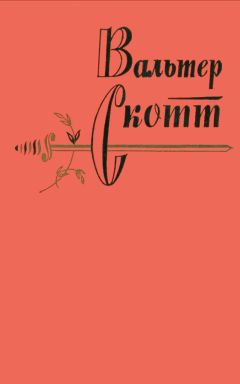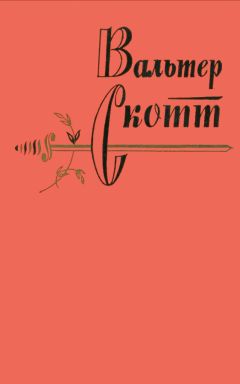— Да это моя мысль, племянник Маркем, моя мысль! — в восторге воскликнул сэр Генри. — Она лучше выражена, но это как раз то, что я говорил, когда подлые круглоголовые уверяли, что видят духов в Вудстоке… Читай дальше, пожалуйста Эверард продолжал:
— О, Вера ясноглазая, и ты,
Надежда с белоснежными руками!
Ты, незапятнанная Чистота!
Я ныне вижу вас и уповаю,
Что вездесущий, в чьих руках невзгоды —
Всего лишь слуги грозного возмездья, —
Мне ниспошлет хранителя благого,
Чтоб оберечь и жизнь мою и честь…
Ошибся я, иль черной тучи плащ
И впрямь сверкнул в ночи шитьем сребристым?
— Дальше забыл, — сказал чтец, — и то удивительно, что запомнил так много.
Сэр Генри Ли ожидал каких-нибудь виршей, совсем непохожих на эти прекрасные классические строки; презрительное выражение исчезло с его лица, он перестал кривить верхнюю губу и, поглаживая бороду левой рукой, приставил указательный палец правой ко лбу, в знак глубокого внимания. Когда Эверард замолчал, старик вздохнул так, словно в ушах его смолк поток сладкозвучной музыки. Потом он заговорил уже более дружелюбным тоном.
— Племянник Маркем, — сказал он, — стихи эти текут сладостно и звучат как лютня в руках умелого музыканта. Но ты знаешь, что я не сразу схватываю весь смысл того, что слышу впервые. Повтори еще раз эти стихи, медленно и с расстановкой; я всегда люблю слушать поэзию дважды: первый раз, чтобы уловить звучание, а второй раз — смысл.
Ободренный его словами, Эверард прочитал стихи еще раз, увереннее и лучше; баронет ясно расслышал все и взглядом и жестами выразил свое высокое одобрение.
— Да, — проговорил он, когда Эверард снова умолк, — вот настоящая поэзия, хотя бы автор ее был просвитерианин или даже анабаптист. Достойные и праведные люди были и в нечестивых городах, которые пожрал огнь Господень. И, конечно, я слышал, хотя и не очень этому верил — прошу прощения, племянник Эверард, — что некоторые из вас поняли, какую вы сделали ошибку, когда восстали против лучшего и добрейшего государя и довели до того, что он был убит бандой еще более свирепой, чем они сами.
О, нет сомнения, благородство ума и чистота души, продиктовавшие такие прекрасные строки, давно уже подсказывали этому достойному человеку слова:
«Я грешен, я грешен». Да, я уверен, эта сладкозвучная арфа сломана, хотя бы от одного раскаяния в преступлениях, которым он был свидетелем; и теперь он сидит С поникшей головой, полный стыда и печали за Англию. А каждая из его великолепных рифм, по словам Уила,
Как колокол надбитый, дребезжит.[58]
Не так ли, мистер Кернегай?
— Не думаю, сэр Генри, — ответил паж с легким лукавством.
— Как, вы не верите, что автор этих строк должен быть лучше других и, конечно, склоняется к нашим убеждениям?
— Мне кажется, сэр Генри, эта поэзия показывает, что ее автор способен написать пьесу о жене Потифара и ее строптивом возлюбленном; что же касается его призвания, то, судя по последней метафоре — туча в черном камзоле или плаще с серебряным шитьем, — я произвел бы его в портные, но только я случайно знаю, что по профессии он школьный учитель, а по политическим убеждениям удостоен звания поэта-лауреата у Кромвеля; ведь то, что так умилительно читал полковник Эверард, написал не кто иной, как знаменитый Джон Мильтон.
— Джон Мильтон! — в изумлении воскликнул сэр Генри. — Как! Джон Мильтон, кощунственный и кровожадный автор Defensio Populi Anglicani![59] Адвокат адского Верховного суда дьяволов! Выкормыш и прихлебатель этого верховного обманщика, этого отвратительного лицемера, этого ненавистного чудовища, этого выродка природы, этого позора рода человеческого, этого средоточия подлости, этого сосуда греха и этого сгустка низости, Оливера Кромвеля!
— Тот самый Джон Мильтон, — ответил Карл, — учитель маленьких детей и портной облаков, которых он снабжает черными камзолами и плащами с серебряным шитьем, вопреки всякому здравому смыслу.
— Маркем Эверард, — сказал старый баронет, — я тебе никогда не прощу… Никогда, никогда. Ты заставил меня отозваться с похвалой о том, чью падаль следовало бы бросить на съедение коршунам… Не говори ни слова, и вон отсюда! Неужели я, твой родственник и благодетель, достоин того, чтобы морочить меня, выманивать от меня похвалу и одобрение, и кому? Такому гробу повапленному, как этот софист Мильтон?
— Позвольте сказать вам, — возразил Эверард, — что это несправедливо, сэр Генри. Вы сами просили меня, вы настаивали, чтобы я прочел вам образец поэзии, не уступающей Шекспиру. Я думал только о стихах, а не о политических взглядах Мильтона.
— О да, сэр, — возразил сэр Генри Ли, — мы знаем, вы мастера делать разграничения; вы могли воевать против прав короля, ничего не имея против его личности. Боже упаси! Но господь все слышит и будет вам судьей… Поставь вино, Фиби, — это он добавил как бы в скобках, обращаясь к Фиби, которая вошла с вином и закуской. — Полковник Эверард на хочет пить. Вы отерли уста и говорите, что не сделали ничего дурного. Но хотя вы обманули человека, бога вам не обмануть. И вы не оботрете уст в Вудстоке ни после еды, ни после питья, уж поверьте мне.
Таким образом, на Эверарда обрушилось обвинение в грехах, приписываемых всей его религиозной секте и политической партии; он слишком поздно осознал, какой сделал промах, когда стал оспаривать вкусы своего дяди в драматической поэзии. Он попытался объясниться, готов был просить извинения.
— Я не понял вашего намерения, уважаемый сэр, и думал, что вы в самом деле желаете узнать что-нибудь о нашей литературе. Уверяю вас, что, когда я прочитал стихи, которые вы сочли достойными ваших ушей, я предполагал доставить вам удовольствие, а совсем не вызвать ваше возмущение.
— О да! — возразил баронет все так же гневно, — Уверяю, уверяю… Это ваше новое выражение, которым вы заменяете нечестивые клятвы придворных и кавалеров… Послушайте, сэр, уверяйте меньше и больше делайте… Итак, прощайте. Мистер Кернегай, вы найдете вино в моей комнате.
Фиби стояла разинув рот, ничего не понимая в неожиданно возникшей ссоре, а полковник Эверард все больше закипал от гнева при виде пренебрежительной позы молодого шотландца, который, засунув руки в карманы (с модным придворным жеманством того времени), вытянулся в старинном кресле; он был вежлив и не стал громко смеяться, по зато он умел смеяться про себя; благодаря этой способности светский человек может дать волю своему веселью, не вызывая ссор и не нанося прямого оскорбления; однако он не очень старался скрыть то, что его чрезвычайно забавлял результат визита полковника Эверарда в Вудсток. Терпение же Маркема достигло предела, за которым он легко мог вспылить; хотя их политические взгляды сильно расходились, в характере дяди и племянника было много общего.