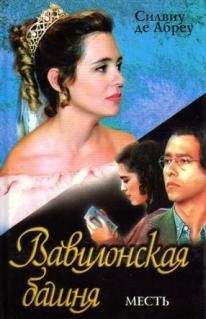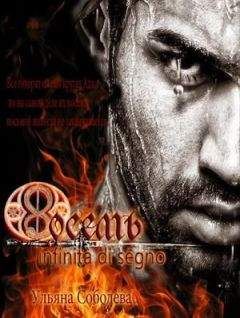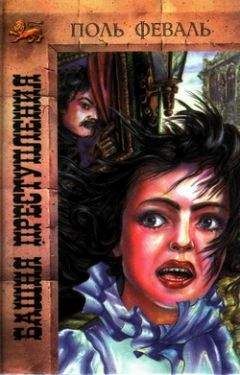Бывает нищета мрачная, как тюремная ночь, она напоминает о сумрачной нищете средневековья или о той нищете, в тысячу раз более ужасной, которую Лондон прячет за наглой ложью своей роскоши.
Подобная нищета у нас уже исчезает. В Париже пролагаются широкие просеки, оттесняющие бедняцкие муравейники и позволяющие дневному свету проникнуть туда, где еще недавно царили сумерки.
Этот процесс не уничтожает нищеты, и я даже не знаю, уменьшилась ли она, разве что совсем немного, но он по крайней мере уничтожает вековое, вошедшее в поговорку зловоние, столь же постыдное, сколь самые отталкивающие язвы прокаженных кварталов Лондона.
Нищета отступила и, отступив, поменяла облик.
Теперь это набеленная, припудренная, так сказать, оштукатуренная нищета, которая больше не прячется, а выставляет себя напоказ.
Мы видим ее признаки повсюду вокруг Парижа: наспех сооруженные халупы, которые, кажется, существуют лишь для того, чтобы быть разрушенными и выстроенными вновь тогда, когда Париж, беспрестанно разрастаясь, пинком отшвырнет их на новые задворки.
Они выглядят, может, и не очень ужасно, но зато страшно уродливо. У ночи есть своя поэзия, а эти мерзкие тусклые лачуги глухи и немы.
Можно сказать, их держат здесь из жалости, как нищего на пороге: они не решаются пустить корни, всегда ожидая метлы, которая безжалостно сметет их.
Из окна комнаты Жюстена можно было увидеть голую землю цвета пепла, на которой в некоем порядке выстроились сооружения, созданные фантазией Барбы Малер.
Слово «сооружения», впрочем, здесь неуместно, потому что дома этого рода, кажется, растут вольно, сами по себе, как грибы.
Барба Малер, сообразительная спекулянтка, просто-напросто арендовала по дешевке на три года пустырь и таким образом устроила себе ренту в четыре или пять тысяч ливров, сдавая старьевщикам комнаты, обходившиеся им в сто су в месяц.
Плата за комнату поднималась до шести франков, если она была меблирована.
Комната считалась меблированной, когда Барба ставила туда табуретку и бросала на пол набитый соломой тюфяк.
Комната папаши Жюстена не называлась меблированной. В ней не было ничего, кроме кучки соломы, собранной по травинке, и бедной колыбели, о которой мы так часто говорили: алтаря, у коего в течение нескольких недель Лили оплакивала свою дочь.
Помимо этих двух предметов меблировки, вы не нашли бы в комнате папаши Жюстена ничего – разве что бутылку, свечу и библиотеку, имеющую немалое значение для поддержания его репутации ученого человека.
Его библиотека представляла собою стоявшую на прибитой к стене дощечке дюжину ужасно грязных книжек, среди которых можно было заметить «Пять кодексов», два тома Вергилия и очень красивое, но донельзя затрепанное издание полного собрания сочинений Горация.
Папаша Жюстен, одетый, спал на соломе. Впрочем, «одетый» – это громко сказано: его костюм был из тех, что принадлежат беднейшим из старьевщиков.
Лучи утреннего солнца, проникавшие сквозь небольшое окошко, в котором не хватало нескольких стекол, отвесно падали на его изможденное лицо с густой бородой и на седые взъерошенные волосы.
Ничего в его облике не напоминало того красивого человека, что каких-то двадцать лет назад слыл в студенческом квартале настоящим светским львом.
Это усталое и безразличное лицо казалось бы высеченным из камня, если бы лихорадочный сон не окрасил скулы румянцем.
Папаша Жюстен лежал, вытянувшись, как мертвец, на спине, прижав руки к бокам. Рядом с ним стояла пустая бутылка, огарок свечи был прилеплен прямо к полу; неподалеку валялся открытый том Горация.
В дверь постучали. Он не проснулся. Постучали сильнее. Он остался недвижим.
Тогда на лестничной клетке послышались голоса.
– Разве господин Жюстен уже ушел? – спросил женский голос.
– Папаша Жюстен давно не выходит, – прозвучал ответ. – Он зарабатывает себе на стаканчик, составляя иногда для хозяйки всякие важные документы; она дорого бы заплатила, если бы он согласился пойти к ней на службу, да папаша Жюстен хочет остаться свободным.
– Раз он здесь, то почему молчит? – спросил тот же голос.
– Папаша Жюстен делает, что хочет, – ответили женщине. – Он не такой, как все, и те, кто близко знаком с ним, уверяют, что подобного ему не сыскать в целом Париже. Хозяйка Малер недавно предложила ему франк с лишним и дармовую выпивку – лишь бы он содержал в порядке ее домовые книги, но куда там! Ему ничего не надо. Еще бы: ведь любая птица клюет больше, чем он съедает хлеба, а чтобы напиться пьяным, ему хватает одного-единственного стаканчика слабого вина. А ведь было время, когда ему ничего не стоило одним глотком проглотить полбутылки абсента – все равно что ложку супу хлебнуть. Да-а, сдает наш Жюстен, сдает…
– А он все еще может помочь советом?
– Когда бывает в хорошем настроении… Редко… Чаще всего он гонит посетителей прочь – чтобы, мол, не надоедали и не утомляли. Черт возьми, он и впрямь очень худой и слабый. Иногда, впрочем, он вдруг приходит в себя и тогда становится гордым, как принц!
Женский голос заключил:
– Но нам все-таки нужно посоветоваться с ним. – И в дверь снова застучали.
Поскольку папаша Жюстен и не подумал пошевелиться, голос услужливого соседа возвысился до крика.
– Эй! Эй! – вопил он на лестнице. – Папаша! Тут богатые люди пришли спросить у вас совета. Очень вы им, видно, нужны!
В комнате по-прежнему царило молчание. Замком двери папаши Жюстена служила лишь людская честность. Сосед сказал ожидавшим:
– Вы оба кажетесь мне заслуживающими доверия и сочувствия, и я попробую помочь вам. Надеюсь, вы не забудете отблагодарить меня за мои усердие и услужливость?
Он дернул за бечевку, привязанную к задвижке, и добавил:
– Будь что будет! Заходите, пожалуйста!
Заслуживающие доверия и сочувствия посетители переступили порог, и – право слово! – мы не стали бы спорить с соседом папаши Жюстена: оба они и впрямь выглядели весьма почтенно.
Итак, в комнату вошли: Эшалот, заместитель директора театра, где работала мадемуазель Сапфир, с ног до головы облаченный в светло-голубое – за исключением галстука, который был ярко-оранжевым, и мадам Канада, директор того же заведения – в платье из желтого шелка, ковровой шали, черных перчатках, ботинках с кисточками и выходном чепце, украшенном листьями. В самом настоящем чепце для светских вечеринок, который она купила в пассаже Сомон, этом гроте нимфы, украшающей головы тех, кто стремится к элегантности, не забывая о бережливости.
Слава Богу, что в театре Канады теперь ни в чем себе не отказывали: вот уже семь лет, как пассаж Сомон пытался продать кому-нибудь этот диковинный чепец.