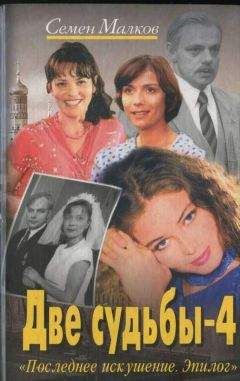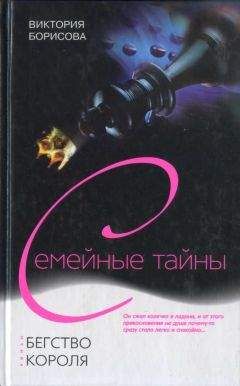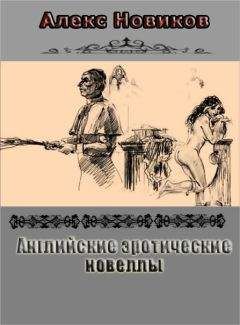Но тут Шрам повел беседу о другом. Он обратился к Божьему Человеку:
— Ну, скажи ж мне, батько, — ты везде странствуешь — что слыхать у нас за Днепром?
— Слыхать такое, что лучше и не говорить: меж казаками никакого ладу: один направо, а другой налево.
— А старшина ж и гетман у вас на что?
— Старшины у нас много, да некого слушаться.
— Как некого? А Сомко?
— Что ж Сомко? Сомку тоже не дают гетманствовать.
— Как же это так?
— А так, что лукавый искусил на гетманство седого старика Васюту Нежинского. Много казаков и на его стороне, сильна его рука и в царском дворе — и там за него стараются. А Сомко, видите, не хочет никому придите поклонимся; надеется взять правдою свое. Вот, как не стало миру меж старшими головами, так и казаки пошли один против другого. Столкнутся где-нибудь в шинке или на дороге: «Чья сторона?» — «А ты чья?» — «Васютина.» — «Убирайся ж к нечистому, боярский подножек!» — «Нет, убирайся ты, Переяславский крамарь!» Это, видите, против того, что у Сомка есть крамныя коморы [31] в Переяславе. Вот и схватятся...
Слушая такой неутешительный рассказ, наш Шрам и голову повесил: стеснили ему сердце эти новости.
— Да постой же! сказал он, ведь Сомка ж избрали гетманом в Козельце?
— Избрали, и сам преосвященный Мефодий был там, и приводил казаков к присяге гетману Сомку; а после опять все расстроилось; а расстроилось, коли хочете знать, от Сомковой прямоты, а иные говорят — от скупости. Ну, я Сомка знаю не за скупого. Теперь-то он казну свою бережет крепко, только на добрые дела, на общую корысть, а не из скупости.
— Какое же кому дело до его казны? спросил угрюмо Шрам.
— А такое, как и до крамных комор. Зависть! Но тут вот откуда подул нехороший ветер. Отец Мефодий надеялся заработать у Сомка за казацкую присягу какую-нибудь сотню червоных на рясу, а Сомку и не в догад. Ну, оно и ничего бы, да тут Васюта Золотаренко подвернулся с искушением. Водился он в старые годы с Ляхами, звался у них паном Золотаревским, и научился всякому пронырству. Брякнул кисою перед владыкою; тот и смастерил какую-то грамоту в Москву [32], а тут и по гетманщине пустили говор, что Козелецкая рада незаконная. «Надобно, говорят, созвать новую, полную раду, на которой бы и войско Запорожское было, да избрать такого гетмана, которого бы все слушались.» А то Васюта ищет себе гетманства и не слушается Сомка, а Запорожцы гетманом Бруховецкого зовут...
— Бруховецкого! вскрикнул Шрам. — А это что еще за проява [33]?
— Проява на весь свет, сущая сказка, да совершается перед глазами, так поневоле поверишь. Вы знаете Иванца?
— Еще бы не знать чуры Хмельницкого! отвечал за всех Шрам, который слушал рассказ Божьего Человека с нетерпением, и, казалось, пожирал слова его.
— Ну, слыхали вы и про то, что он поссорился с Сомком?
— Слыхали, да что в этом?
— Кажется, Сомко назвал Иванца свиньею, что ли? вмешался Черевань.
— Не свиньею, а собакою, да еще старою собакою, да еще не на самоте или там как-нибудь под веселый час, а перед всею генеральною старшиною, на домашней раде у молодого гетмана!
— Га-га га! засмеялся Черевань. Отвесил соли, нечего сказать!
— Отвесил соли, да себе в убыток.
— Как так?
— А так, что не следовало бы вельможному Сомку задевать Иванца. Иванец конечно был себе человек незнатный, да почетный. Служил он усердно батьку Богдану; на Дрижиполе даже спас его от верной смерти, сам попался в плен, и принял от неверных много муки. Может быть, и навеки там бы пропал, когда б старый Хмельницкий не выкупил дорогою ценою. В чести был у гетмана Иванец, но не брал от него ни золота, ни уряду [34]. Простенькой, смирненькой был себе человечек, и незаметно совсем было его в доме. Ты б сказал — так себе служка; а посмотри, в каком почете у ясновельможного! Бывало, проживаю в гетманском дворе, так и слышу: «Иванец, друже мой верный!» отзывается бывало к нему покойный гетман, под веселый час, за чаркою. — «Держись, Юрусь, говорит, бывало, сыну; держись, Юрусь, Иванцовых советов, когда меня не будет на свете. Это верная душа, он тебя не обманет.» Ну, Юрусь и держался его советов, и что, бывало, скажет Иванец, то уже свято. А Сомко, сами знаете, доводится дядя Юрусю; его мать была родная сестра Сомкова; ведь старый Хмель был в первый раз женат на Ганне Сомковне; так Сомку и не понравилось, что Иванец управляет его племянником. Раз трактовала о чем-то старшина у молодого гетмана, а Иванец, прислушавшись к их беседе, и болтнул что-то спроста. Ну, а вы знаете Сомка: вспыхнет, как порох. «Пане гетмане! говорит, старого пса непристойно бы мешать в нашу беседу.» Вот как оно было, панове, коли хочете знать. Я сам случился на то время в гетманском будинке [35], и слышал все речи своими ушами. При мне же сделалась и тревога ночью, когда Сомко поймал Иванца с ножом в руке возле своей постели. Вот и судили его войсковою радою, и присудили отрубить голову. Оно бы так и было, панове, да Сомко выдумал ему хуже кару: посадить на свинью и провезти по всему Гадячу.
— Га-га-га! захохотал от всей души Черевань. Котузі по заслузі!
Но Шрам сказал мрачно: — Что об этом рассказывать? Все это мы давно слышали.
— А о том слышали, что сделал после Иванец?
— А что ж он, бгатику, сделал? спросил Черевань.
Если б я был на его месте, то, ей Богу, не знаю, что б я и делал после такого казуса! Как тебе кажется, Василь?
Василь Невольник покачал только головою.
— Вот что сделал Иванец: подружился с нечистым; давай деньги копить, давай всякому угождать, кланяться, давай просить у молодого гетмана почетного уряду. Вот и сделали его хорунжим; да как пошел Юрусь в монастырь, так Иванец — ведь у него были от скарбницы ключи — подчистил все сребро и золото, да на Запорожье. А там сыпнул деньгами, так Запорожцы за ним роем: «Иван Мартынович! Иван Мартынович!» А он ледачий со всеми братается, да обнимается...
— Ну, что же из этого? спросил нетерпеливый Шрам, между тем как его губы дрожали от какой-то страшной мысли.
— А вот что: Запорожцы так его полюбили, что созвали раду, да и бух Иванца кошевым!
— Как! Иванца кошевым отаманом!
— Нет, не Иванца, а Ивана Мартыновича. Теперь уже он Иван Мартынович Бруховецкий!
— Силы небесные! вскрикнул, схватившись за голову, Шрам. Так это его-то зовут Запорожцы гетманом?
— Его, пан-отче, его самого.
— Боже правый, Боже правый! отозвался сам к себе Василь Невольник. — Переведется же, видно, скоро совсем Запорожье, коли таких кошевых выбирают!