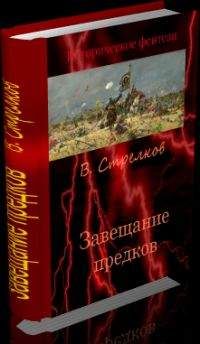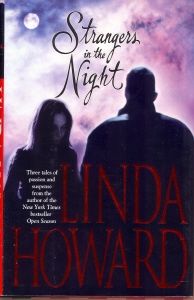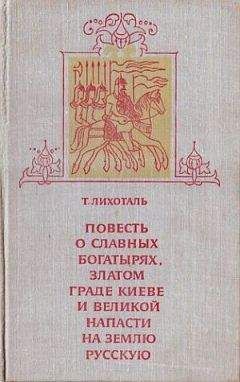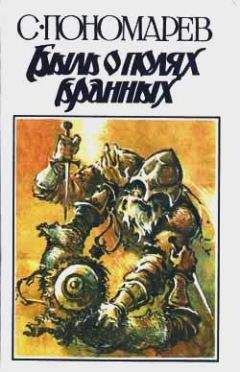Крак!
Клинки скрещиваются и ломаются. Одновременно отбрасываем обломки и смотрим друг на друга. Монгол криво улыбается.
— У меня был раб, цзынец. Он убил много наших воев. Голыми руками. Но я его победил и оставил в живых. Он многому меня научил, урусут. Убивать голыми руками легко, и я сверну тебе шею также, как свернул её тому юнцу.
— Попробуй.
— Уй-ча!
Монгол прыгает вперёд, резко выбрасывая свою ногу. Приседаю и, подбивая ногу в сторону, бью степняка кулаком в пах. Он отлетает, скрючившись калачом, в сугроб.
- Плохо учил тебя тот цзынец, степняк. — Я остановился на краю обрыва. Монгол шипел от боли и косил глазом на меня. — Главного он не сказал тебе. Кто самоуверен, тот всегда побеждён.
— Ур-р-р. — Какая-то дикая сила подняла Буола с земли. Он молнией метнулся, сбивая меня с ног. Сцепившись, мы полетели с откоса. Монгол, молотил кулаками сидя сверху, а я отбивал удары и пытался его сбросить.
Голову прошиб нестерпимый холод. Ледяная вода обжигала. Я выгнулся, но только глубже съехал в реку. Степняк торжествующе захохотал.
— Вот и всё урус! — Он мертвой хваткой вцепился в ворот, удерживая меня. Из-под воды я видел его искаженное злобой лицо. Затем, вода замутилась моей кровью, вытекавшей из раненого плеча.
Вдруг хватка ослабла, а вместо торжествующего хохота раздался вопль ужаса. Вывернулся из воды и, прокашлявшись и отдышавшись, уставился на орущего степняка.
— И-я-а-а-и-у-а-а! — Монгол извивался и пытался что-то отряхнуть с почему-то дымящихся рук. Катаясь по берегу, он съехал в воду, и она… закипела.
Вскоре бурление в реке успокоилось, но я пялился в то место куда упал монгол. В голове роились миллионы ответов, но нужного не находилось. Я долго смотрел на Буола, превратившегося в высохшую мумию. Превратившегося в воде! В воде! В мумию!
Рука медленно сотворила крестное знамение.
Господи помилуй! Что это было?
Там рассветы горят, и поют соловьи.
Ветры в рощах шумят. Тихи воды твои.
Ты скажи, Светлый Яр. Память предков открой,
Покажи святый град. Дай душевный покой.
Но молчит Светлый Яр. В роще ветер шумит.
Скрыл он тайну свою, лишь волною рябит.
И летят облака, в отраженье твоём,
В синих водах храня, тайну давних времён.
Я в густую траву, на твоём берегу,
Закрывая глаза, отдохнуть упаду.
Стихли птицы вокруг. И в лесной тишине,
Стали звон, боя звук, вдруг послышится мне.
Это предки мои, защищая свой дом,
Перед градом святым, тут сражались с врагом.
Гром набата и плач. Треск пожара и смрад,
Так в огне погибал, мой святой Китеж-град.
И молитвы воздав, лик Христа вознося,
Русь ушла в Светлый Яр, град в сердцах унося.
И раскрыл Светлый Яр, глубину своих вод,
От безумства смертей, Вражьих яростных орд,
Скрыл в тумане своём, Вольный русский народ.
И опять Светлый Яр, лишь волною рябит.
Вдаль летят облака. Ветер в роще шумит.
Тайну града в веках, Светлый Яр сохранил,
Виден град лишь тому, тот, кто сердце открыл.
В светлых водах твоих, сохранен с давних лет,
Китеж-град мне открыл — предков славных завет.
Все заветы отцов, точно вам передам.
Расскажу я о том, внукам и сыновьям.
Моя память горит, ярким жарким огнём.
И стоит Китеж-град, крепко в сердце моём.
Пульсирующая боль стихает. Гул в голове и жужжание в ушах усиливается. Сквозь жужжание угадывается… птичий щебет. Какой щебет зимой? А почему так душно? Медленно открываю глаза и… вижу зелёную листву в огромной кроне дерева. Рука цепляет густую шубу мха.
От увиденного меня подбрасывает, я вскакиваю и тут же падаю, от нахлынувшей слабости. Сидя на мягком ковре мха, пережидаю гул в голове, затем медленно открываю глаза и оглядываюсь.
Не понял. А где снег? Где вообще я? Куда меня занесло?
Потряс головой, и она загудела сильней. Накатил приступ тошноты. В цветных кругах, плавающих перед глазами, разглядел смутно знакомый лес. Нет, сначала надо прийти в себя, может это всё глюк? Немного посидел с закрытыми глазами. Вроде стало легче — голова гудеть перестала, тошнота отошла. Только жужжание осталось, и то еле слышно. Опять смотрю на летний лес. Нет, это не глюк, но как это возможно? Я что, пролежал тут несколько месяцев? Всю весну? Бред.
Может, я умер? Тогда почему всё болит? Голова, руки, ноги, всё тело? Пошевелил ногами и руками — целы, вроде, только дико чешутся. И не только они. Всё тело, кажется, представляет собой сплошной комок раздражения. И что-то колет сзади в плечо. Подсунул руку под ворот и пропихнул её дальше, под самый броник. Ага, вот что колется. Наконечник стрелы. Похлопал по сапогу. Надо же! Нож на месте. Достал его и, чуть повозившись, выпихнул наконечник наружу. Потом потрогал плечо. Ой, а рана-то заросла! А так зажить она может, если только…
Медленно поворачиваюсь и смотрю назад.
А сзади дуб.
Как я оказался у этого дуба? Как? Почему? Зачем?
Рука сжимает толстый корень. Как же так!
Не помню ничего. Как я тут оказался? Потер виски, пытаясь унять пульсирующую боль и вспоминая, что со мной произошло.
Так, я сражался с монголом у какой-то речки. А почему «какой-то»? Название её я знал — Линда. Хм. Странно, а почему Линда? Китеж стоял на Люнде, последний мой бой на Линде. М-да.
Ладно. Сражался я с этим, как его? А, вспомнил, с Буолом. Он чуть не утопил меня. А потом? А потом он превратился в… мумию? Как? Почему?
Медленно смотрю на лес вокруг, пытаясь понять. Зелёная листва тихо шумит, и в эту музыку леса чудесно вплетается птичий щебет. В голову ничего не приходит.
Но что же случилось? И как я сюда добрался?
Так, что было дальше?
Я поднялся вверх и подобрал саблю, нашел нож, а затем? Взял понуро стоящую у края леса лошадь, конь монгола отбежал дальше, а сил ловить его не было.
Как поднялся в седло — не помню. Какие-то отрывки воспоминаний. А! Помню, как оказался на поле, где в будущем будет стоять посёлок. Лошадь как раз упала. Дальше я шел сам. И всё.
Потёр виски, но вспомнил только, что вроде меня кто-то звал, а кто?
— Здравствуй, человече.
Поднял голову. Рядом, на другом, не менее толстом корне, сидит леший по имени Кочур.
Открываю рот, но вдруг наваливается дикая усталость, и сил сказать хоть слово нет. Сижу как парализованный и смотрю на хранителя.
А леший какой-то он другой стал. Ссутулился, прибавилось морщин, борода свалялась, и не напоминала больше причудливую лопату. Как будто леший постарел сразу на много-много лет. Хотя, не знаю, применимо ли такое сравнение к нему. Уже не просто опираясь, а навалившись на свою клюку, Кочур смотрел на меня впалыми глазами. Он глубоко вздохнул и произнёс: