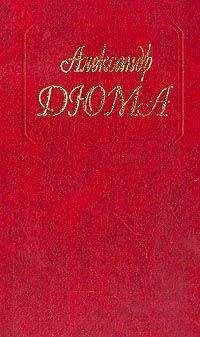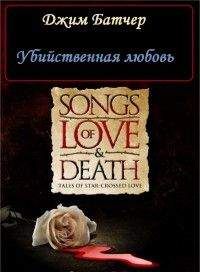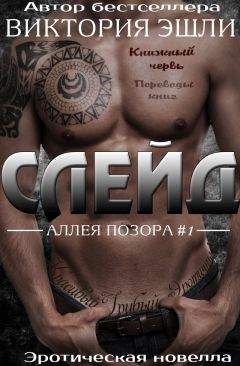Чтобы видеть эту прекрасную луну лежа в кровати, когда свеча будет погашена, я оставил решетчатые ставни открытыми, а занавески незадернутыми и таким образом через оконные стекла мог наблюдать темно-синий небесный свод с прочерченным на нем длинным светлым следом — это был Млечный Путь, а еще дальше я заметил мерцающую то красным, то белым, то голубым светом звезду — это был Альдебаран.
Как долго я созерцал это тихое и грустное зрелище то ли открытыми, то ли полусомкнутыми глазами, я не знаю. В конце концов я задремал, а когда вновь открыл глаза, все еще полные этого иссиня-черного неба и этих мерцающих звезд, то мне показалось, что небосвод охвачен пожаром.
Все, что прежде было синим, сейчас стало пурпурным. Небо, такое спокойное и ясное за несколько часов до этого, расходилось огненными волнами. Утренняя заря возвещала восход солнца.
Я все еще восторгался этим зрелищем, когда мне послышалось, что меня зовут из соседней комнаты.
Прислушавшись, я действительно уловил долетевшее до меня имя Александр.
— Это вы, Лилла? — в свою очередь вполголоса спросил я.
— Да, хорошо, что вы проснулись, — проговорила она все так же тихо, — вы не находите, что Всевышний создал для нас великолепные декорации?
— Просто блестящие! Жаль, что мы не вместе любуемся этим небом!
— Кто вам мешает войти и смотреть отсюда?
— А наша венка не будет возражать?
— Да она спит.
— Тогда откройте мне дверь.
— Открывайте сами, она и не была закрыта.
Я спрыгнул с кровати, надел брюки, халат, туфли и как можно тише вошел в комнату соседок.
Лилла, выражаясь театральным языком, лежала «со стороны двора», а ее соседка — «со стороны сада». Высокое окно позволяло лучам зарождающегося дня обагрять ее кровать и лицо, которое, казалось, плыло в розовом свете. Стараясь не загораживать собою свет, я снял зеркало и поднес его Лилле, чтобы она в него посмотрелась.
Было совсем нетрудно понять по ее улыбке, что она была мне признательна за то, что увидела себя такой красивой.
— Вот, — сказал я, — поцелуйте себя. И я поднес зеркало к ее губам.
— Нет, — ответила она, — поцелуйте вы меня, так будет лучше.
Я поцеловал ее, пожелав еще много-много раз встречать столь дивную утреннюю зарю, подобно той, что поднималась за окном, и после этого повесил зеркало на гвоздь.
— Возьмите стул и устраивайтесь у моей кровати, — сказала она, — у меня к вам просьба.
— Какая?
— Вы должны мне рассказать историю, которая навечно останется у меня в памяти связанной с этим чудесным восходом солнца.
— Какую историю вы хотите услышать перед лицом подобного великолепия? Вы знаете «Вертера», знаете «Поля и Виргинию»…
— Разве вы не говорили мне, что обязаны моей соотечественнице одним из приятнейших воспоминаний в жизни?
— Да, я говорил это.
— Разве вы не говорили мне, что это воспоминание было совершенно безоблачным и что единственное, чем вы заплатили за три месяца счастья, были слезы в ту минуту, когда вас покинули?
— И это правда.
— Не будет ли с вашей стороны нескромным рассказать мне эту историю?
— Уже не будет, к сожалению, ибо эта женщина умерла два года тому назад.
— Вы говорили, что она была не только моей соотечественницей, но и, как я, драматической актрисой.
— Да, только нужно сказать, что драматическим было ее пение.
— Прошу вас, расскажите мне об этом, но говорите тише, ведь наша соседка спит.
— Это было в тысяча восемьсот тридцать девятом году, я был уже стар, как вы понимаете, — мне было тридцать семь лет.
— Мне кажется, вы никогда не состаритесь.
— Да услышит вас Бог! Я в третий раз был в Неаполе, и, как всегда, под вымышленным именем. На этот раз я носил вполне прозаическое имя — господин Дюран.
Я собирался посетить Сорренто, Амальфи и Помпеи, которые я недостаточно внимательно осмотрел в предыдущие свои поездки; впрочем, на них никогда не насмотришься. Таким образом, верный своим привычкам, я оказался в порту и нанял одну из тех больших сицилийских лодок, на какой я путешествовал в тысяча восемьсот тридцать пятом году.
На этот раз я оказался один, со мной больше не было двух моих славных спутников — их звали Жаден и Милорд.
На этот раз в Неаполе не было ни Дюпре, ни Малибран, ни Персиани.
И Неаполь показался мне очень печальным.
Между тем, накануне того дня, когда я собирался нанять лодку, мне пришлось присутствовать на большом музыкальном торжестве.
Ваша соотечественница, госпожа Д. (разрешите мне называть ее только по имени — Мария) дала последний концерт в Неаполе и собиралась петь в театре Палермо.
Госпожа Д. была выдающейся, прекрасной актрисой; ей было тридцать лет, говорила она, как и вы, на всех языках и обладала прекраснейшим голосом, но прежде всего — великолепным драматическим голосом.
Ее вершиной была «Норма».
Я знал ее еще в Париже, где ей давали комедийные роли, такие, как Церлина, и в них она имела огромнейший успех.
Меня ей представили после спектакля «Дон Жуан», и мы почувствовали друг к другу явную симпатию: когда я сказал всего лишь, что нахожу ее очаровательной и просто счастье, что она уезжает только послезавтра, она простодушно ответила:
«Да нет же, горе!»
«Но, — настаивал я, — в двух днях — сорок восемь часов, а в сорока восьми часах — две тысячи восемьсот восемьдесят минут; это вечность, если знать, как их провести с пользой».
Но она покачала головой и сказала:
«Нет… За сорок восемь часов я бы успела заставить вас понять, что вы мне нравитесь, но не успела бы доказать, что люблю вас».
Ответ показался мне убедительным, и я не настаивал. Я поцеловал ей руку и откланялся. Она уехала в Германию, а я — в Италию, и больше мы не виделись.
Вновь случай соединил нас в Неаполе.
Но поскольку я находился там, как и раньше, под вымышленным именем, она не знала о моем там пребывании; я же был в курсе ее успеха, аплодисментов и триумфов. Ее имя было не только на всех афишах, но и у всех на устах.
Я справился о ней, поинтересовавшись, где она остановилась. Мне ответили, что на улице Толедо, и дали ее точный адрес. Я собрался помчаться к ней, но остановился, услышав вопрос:
«Вы знаете, что она собирается замуж?»
Вы понимаете, что эта фраза обрушилась на меня как ледяной душ!
«Замуж! За кого?»
«За вашего соотечественника, молодого композитора, которого вы, разумеется, хорошо знаете, он пишет музыку как композитор-любитель, — барон Фердинан де С».
«О Боже мой!» — воскликнул я.
Ничего не могло меня так удивить, как этот союз.
Но так как именно в невероятное я верю в первую очередь, ибо невероятное должно случаться для того, чтобы о нем говорили как о существующем, то в эту новость я определенно поверил, хотя и был ею удивлен.