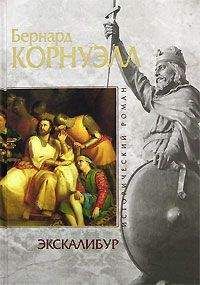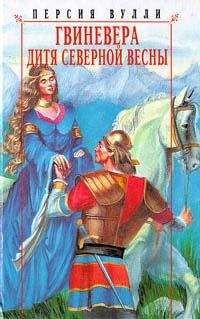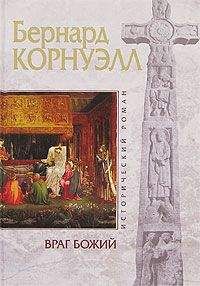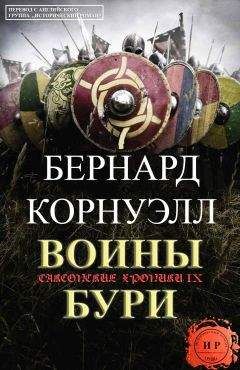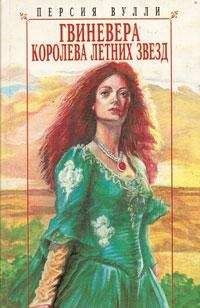— Мерлин? — позвал я снова.
— Крови добавь, — посоветовал он, — в глину надо добавить крови. И перемешать хорошенько. Лучше всего детской, так мне рассказывали. Сам я этого никогда не делал, милая. Танабурс делал, я знаю, а я однажды потолковал с ним по душам. Он, конечно, был дурень тот еще, но броской показухой не брезговал. Нужна кровь рыжего ребенка, объяснял он мне, желательно — рыжего калеки. Конечно, на худой конец любой малец сойдет, но рыжий калека — самое то!
— Мерлин, — проговорил я, — это я, Дерфель.
А старик все бормотал, не умолкая: рассуждал, как сделать глиняную фигуру, чтобы насылать зло издалека. Он толковал о крови, о росе и о том, что лепить истукана необходимо при ударе грома. Меня он упорно не слышал, а когда я встал и попытался отодрать прутья от стволов, из темноты за моей спиной выступили два ухмыляющихся копейщика. То были Кровавые щиты, и копья их недвусмысленно давали понять, что пытаться освободить пленника не следует. Я вновь опустился на корточки.
— Мерлин!
Он подполз ближе и принюхался.
— Дерфель? — переспросил он.
— Да, господин.
Мерлин пошарил вокруг, я протянул ему руку, он крепко стиснул мои пальцы. И, не выпуская моей руки, обессиленно опустился наземь.
— Я безумен, представляешь? — произнес он вполне рассудительно.
— Нет, господин, — возразил я.
— Меня наказывают.
— Безвинно, господин.
— Дерфель? Это вправду ты?
— Я, господин. Поесть хочешь?
— Мне столько всего надо рассказать тебе, Дерфель.
— Надеюсь, господин, — проговорил я, но мысли его, похоже, путались: он опять принялся рассуждать про глину, затем про разные другие заклинания и вновь позабыл о том, кто я такой, потому что назвал меня Артуром — и надолго умолк.
— Дерфель? — наконец позвал он.
— Да, господин.
— Ничего нельзя записывать, ты ведь понимаешь?
— Ты мне много раз это объяснял, господин.
— Нашу мудрость полагается хранить в памяти. Каледдин некогда все надиктовал писцу — тогда-то боги и отвратились от нас. Я-то знания держу в голове. Держал, то есть. Она забрала. Все. Или почти все. — Последние три слова старик прошептал еле слышно.
— Нимуэ? — переспросил я. При упоминании ее имени Мерлин судорожно, до боли стиснул мою руку и вновь замолчал.
— Это она тебя ослепила? — спросил я.
— Так было надо! — отозвался он, нахмурившись, ибо расслышал в моем голосе неодобрение. — По-другому-то никак нельзя. Я думал, это очевидно.
— Только не мне, — горько отозвался я.
— Совершенно самоочевидно! Вот так и заруби себе на носу, — отрезал он, выпустил мою руку и попытался привести в порядок волосы и бороду. Его тонзура исчезла под спутанными космами и грязью, во всклокоченной бороде застряли листья, одежды давным-давно утратили белизну.
— Она ведь теперь друид, — произнес Мерлин благоговейно.
— А я думал, женщины друидами быть не могут, — удивился я.
— Не глупи, Дерфель. Из того, что женщины друидами никогда не бывали, отнюдь не следует, что они и не могут! Друидом кто угодно может стать! Надо всего-то навсего затвердить наизусть шестьсот восемьдесят четыре проклятия Бели Маура и двести шестьдесят девять заклинаний Ллеу и хранить в голове еще с тысячу других полезных вещей, а Нимуэ, надо отдать ей должное, оказалась блестящей ученицей.
— Но ослеплять-то тебя зачем?
— У нас теперь один глаз на двоих. Один глаз — и один разум. — И Мерлин надолго умолк.
— Расскажи мне про глиняную фигуру, господин, — попросил я.
— Нет! — Старик отодвинулся от меня; в голосе его звучал неподдельный ужас. — Она запретила, — хриплым шепотом объяснил он.
— Как мне ее уничтожить? — не отступался я. Мерлин расхохотался.
— Тебе, Дерфель? Ты надеешься побороть мою магию?
— Расскажи как, — настаивал я.
Старик вернулся к решетке и повращал пустыми глазницами налево и направо, словно высматривая, не подслушивает ли нас какой враг.
— Семь раз и еще три, — поведал он, — грезил я на Карн Ингли. — Рассудок старика вновь помутился, и на протяжении всей этой ночи, стоило мне попытаться вытянуть из Мерлина тайны недуга Кайнвин, происходило то же самое. Мерлин бессвязно бормотал что-то про сны, про то, как любился с Жатвенной Девой у вод Клаэрвена, или про псов Тригвилта, что якобы за ним охотятся. — Вот зачем здесь решетка, Дерфель, — объяснял он, похлопывая по деревянным прутьям, — это чтобы гончие до меня не добрались, и вот почему у меня нет глаз — это чтобы они меня не увидели. Понимаешь, если у тебя глаз нет, то и псы тебя не видят. Запомни на будущее.
— Значит, Нимуэ попытается вернуть богов? — спросил я в какой-то момент.
— Так затем она и забрала мой разум, Дерфель, — откликнулся Мерлин.
— А она преуспеет?
— Хороший вопрос! Отличный вопрос. Этот вопрос я сам себе постоянно задаю. — Мерлин сел, обхватил руками костлявые колени. — Я спасовал, верно? Предал сам себя. А вот Нимуэ — не предаст. Она дойдет до конца, Дерфель, дойдет во что бы то ни стало.
— Да, но преуспеет ли она?
— Мне бы кошку, — посетовал старик, помолчав. — Скучаю я по кошкам.
— Расскажи мне, как призывают богов.
— Да ты и без меня все знаешь! — возмутился Мерлин. — Нимуэ отыщет Экскалибур, приведет беднягу Гвидра — и совершит обряд по всем правилам. Прямо здесь, на горе. Но придут ли боги? Вот в том-то и вопрос! Ты ведь Митре поклоняешься, так?
— Да, господин.
— А что ты знаешь о Митре?
— Он — бог воинов, рожденный в пещере, — отозвался я. — Бог солнца.
Мерлин расхохотался.
— И это все? До чего же ты невежествен! Митра — бог клятв. Знал ли ты об этом? Ведомы ли тебе ступени посвящения? Ну, сколько там у вас ступеней? — Я молчал, не желая выдавать тайны мистерий. — Да не глупи, Дерфель! — промолвил Мерлин, и голос его звучал вполне разумно — разумнее не бывает. — Сколько ступеней, спрашиваю! Две? Или три?
— Две, господин.
— Значит, вы позабыли еще пять! Каковы первые две?
— Солдат и Отец.
– Miles и Pater, вот как надо правильно говорить. А раньше были еще Leo, Corax, Perses, Nymphus и Heliodromus .[8] Как же мало ты знаешь о своем жалком боге; ну да вся твоя вера — ерунда, пустой звук. Ты восходишь по лестнице с семью перекладинами?
— Нет, господин.
— Ты вкушаешь вино и хлеб?
— Это в обычае у христиан, господин, — запротестовал я.
— У христиан, значит! Да что вы за олухи полоумные! Мать Митры была девой; на младенца ее пришли взглянуть пастухи и волхвы, а сам Митра вырос целителем и учителем. У него было двенадцать учеников; и накануне смерти он напоследок угостил их ужином — вином и хлебом. Похоронили его в каменной гробнице, но он восстал из мертвых — и, между прочим, проделал все это задолго до того, как христиане приколотили своего бога гвоздями к деревяшке. Ты позволил христианам украсть одежды своего бога, Дерфель!