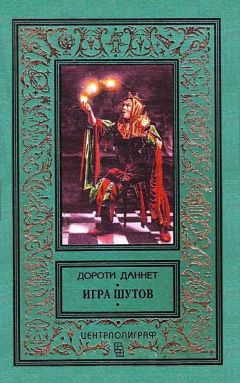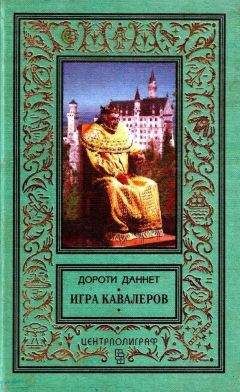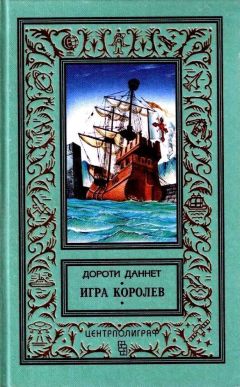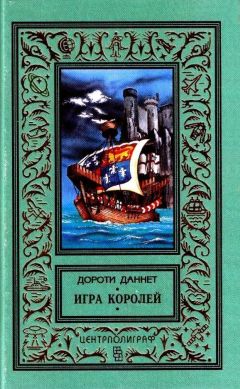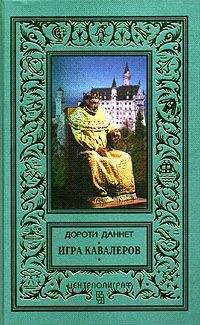— Вы сегодня на удивление великолепны. Я и так чувствую себя продажной девкой — неужели надобно, чтобы все видели, как мы стоим рядом на пороге? Пропустите меня.
Она пришла одна — вещь неслыханная для порядочной молодой женщины. О'Лайам-Роу закрыл дверь, и Уна вошла в комнату. Он, однако, не последовал за ней и не сказал ничего, пока девушка не повернулась к нему.
— У меня нет привычки ходить одной к мужчинам, — сказала она.
— Не такая уж скверная привычка, — отозвался он. — Такую привычку не грех завести, если, конечно, ограничиться кем-нибудь одним.
О'Лайам-Роу сразу понял, что попал впросак. Уна сжала губы, все тело ее напряглось — казалось, она вот-вот ударит нахала. Удара не последовало, но О'Лайам-Роу почувствовал, что всякие человеческие отношения между ними прекратились, и встреча сразу же приобрела чисто деловой характер.
— Я только что из Бонн-Нувель. Одна знакомая моей тетушки состоит в свите королевы. Меня просили кое-что вам передать.
— Правда? — О'Лайам-Рау не предложил Уне сесть.
Они были примерно одного роста, но на этом сходство заканчивалось: тяжелые пряди под ее капюшоном сверкали, как черный лак, у принца же волосы были тонкие, светлые, с заметной рыжиной. Уна поглядела ему прямо в глаза, и ее небольшие полные губы искривились.
— Праздные щеголи, стая пересмешников: вечно ищут себе новую жертву.
Тогда он понял. Чуть расслабившись, прислонившись к деревянным крашеным панелям, он устремил на девушку внимательные голубые глаза.
— Ну так пусть себе смеются, дорогуша: пусть адамово яблоко ходит у них в горле ходуном, как пуля в сербатане. Я не обидчив.
Ее густые шелковистые брови не дрогнули.
— И все же вы потратились на обновы, а?
— Да, — спокойно признал О'Лайам-Роу. — Это было ошибкой. Полагаю, мне следует снова надеть шафрановый наряд. Нет ли у вас знакомого страуса, которому нужно хвостовое перо?
Она даже не взглянула на роскошную шляпу.
— Меня, О'Лайам-Роу, все это нисколько не касается. Я только пришла сказать вам, что молодые щеголи при дворе решили посмеяться над вами. Это приглашение — не от короля.
Он усмехнулся в шелковистые усы.
— А от двойника-актера?
— Откуда вы знаете?
О'Лайам-Роу отвел свои большие глаза от ее лица и указал на окно.
— Он довольно долго торчал тут и рассматривал нас. Бородатый, с черными волосами.
Уна О'Дуайер сказала сухо:
— Да, похоже, что так. Придворные весельчаки подрядили актера, который собирается играть короля в среду, во время процессии. Молва о вашей персоне летит впереди вас от самого Дьепа. Они рассчитывают свести вас с поддельным королем и выставить на посмешище.
Он возразил, ничуть не смутившись:
— Опасная шалость. Разве допустимо так обращаться с гостем настоящего короля?
— Да хватит ли у вас смелости пожаловаться королю? — нетерпеливо воскликнула она. — У вас-то, может, и хватит, но они так не думают. Они полагают, что, поскольку с Англией заключен мир, а с императором отношения снова прохладные, Франция уже не так стремится прибрать Ирландию к рукам; и кого обеспокоит, если какой-то князек, оскорбленный в лучших чувствах, на первой же галере уберется домой?
— Меня уже так и подмывает, — заметил О'Лайам-Роу.
Еще какое-то мгновение Уна пристально смотрела на него, потом своими крепкими мальчишескими руками низко надвинула на лицо зеленый капюшон из грубого сукна.
— Вот все, что я хотела вам сказать. И я надеюсь, — добавила она язвительно, — что ваша философия не оставит вас в тяжелую минуту.
— Не беспокойтесь, — сказал принц Барроу. Тень его, резкая в полуденном свете, легла к ее ногам. — С волками жить, по-волчьи выть. Пусть попробуют. А Тади Бой — он тоже должен вместе со мной оказаться в дураках?
— Нет. Он ведь говорит по-французски. Подшутить решили только над вами. Мне жаль, — неожиданно сказала Уна О'Дуайер, глядя ему прямо в лицо своими ясными серыми глазами. — Не так-то приятно получать от женщины такие новости.
— Да уж, — раздумчиво проговорил О'Лайам-Роу. — Не так-то приятно. Где-то во мне осталось еще самолюбие. Но на вашу долю выпало нелегкое поручение, так что спасибо огромное и вам, и госпоже Бойл. — О'Лайам-Роу открыл дверь и пропустил девушку: его овальное заросшее лицо ничуть не утратило своего обычного добродушия. — Но да простит мне Бог: у нас в Слив-Блуме тоже любят позабавиться, — добавил Филим О'Лайам-Роу.
Через час, в шафрановом наряде, гетрах и фризовом плаще, Филим О'Лайам-Роу, принц Барроу вступил в аббатство Бонн-Нувель, королевскую резиденцию — и над его лохматой, как у домового, головой нависла грозная туча французской espieglerie [8].
Двор, к которому он направлялся, был молодым и не утратил гибкости: свежая кровь струилась по его венам. Генриху, самодержавному повелителю девятнадцати миллионов французов, едва исполнился тридцать один год, а из десяти Гизов, которые держали в своих руках все управление страной, старшей, шотландской королеве-матери, было всего тридцать пять. Отсюда следовало, что придворные в большинстве своем тоже были молоды. Представители старшего поколения еще помнили времена предшественника Генриха, Франциска I, обаятельного развратника, Цезаря, чьим девизом был подсолнух. Он не испытывал большой любви к своим задумчивым, угрюмым, полусонным детям и без долгих размышлений послал двоих сыновей вместо себя в тюрьму, в Педрасу, когда в битве при Павии проиграл итальянскую кампанию и попал в плен.
Из Испании Генрих вернулся неотесанным одиннадцатилетним подростком, забывшим родной язык, и блестящий, остроумный двор заметил походя: «Герцог Орлеанский, с большим и круглым лицом, только и делает, что машет кулаками, и никто не может справиться с ним». В его царствование при дворе процветала наука любви и тяга к наслаждениям, но твердая, тайная, мужественная сердцевина оставалась нетронутой: король покровительствовал ученым, художникам, умельцам всех родов, отдавал должное приятной беседе, ценил личные достоинства, окружая себя поэтами и книжниками.
Но хотя угрюмый, сонный узник и достиг ныне полного триумфа, пусть и не без труда; хотя быстрейшим бегуном, лучшим наездником, искуснейшим лютнистом во Франции считался ее король; хотя именно он успешно закончил войну с Англией, вернул Булонь, а в будущем, когда его сын женится на маленькой королеве, рассчитывал получить Шотландию; хотя сейчас он собирался припугнуть самого императора своим союзом с германскими князьями — все же Генрих Французский сохранил нечто, принадлежавшее миру его отца: так ребенок, покинувший колыбель, сохраняет свою погремушку. Во-первых, это был Монморанси, прямодушный старый воин, которого Франциск удалил от двора, а во-вторых, Диана де Пуатье, которая на протяжении четырнадцати лет оставалась любовницей Генриха.