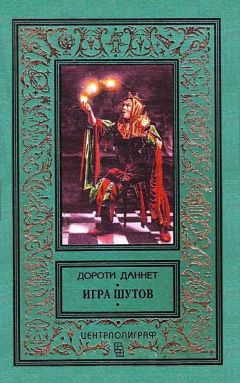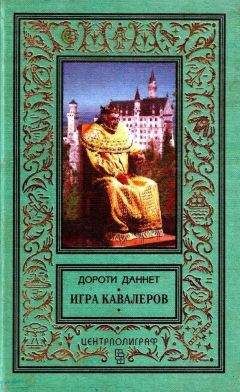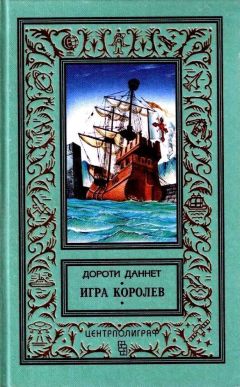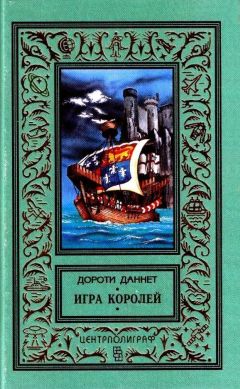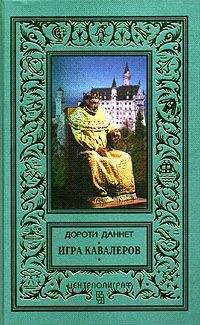— В этой одежде? Упаси Бог, да я весь сопрею, как оленина в собственном соку. Ведь дома у себя мы привыкли иметь всего одно платье, к любому случаю подходящее.
Чернобородый мужчина спросил осторожно через де Женстана:
— А у вас в Ирландии есть такая забава?
О'Лайам-Роу непринужденно уселся. Над площадкой пронесся сдавленный вздох. Явно забавляясь всеобщим замешательством, ирландец продолжал:
— Такая забава, говорите вы? Нет, по мячику хлопать мы не горазды. Но забавы есть и у нас, конечно, и много хороших парней полегло на поле, и слава их сияет ярче ясного дня. Вот, к примеру, Харли. Слышали про такого?
Никто не слышал.
— Так вот, забавляемся мы с дубиной, и одежды никакой особой не нужно — главное, чтобы тебе на поле руки-ноги не переломали. И потом: что бы ты ни нацепил на себя, к концу игры все равно ничего на тебе не останется. Прекрасный способ провести время, пока нет войны. Сам я, впрочем, человек мирный и в такие игры не играю. Ну давайте-ка начинайте: страсть как хочется посмотреть, — добавил О'Лайам-Роу с неподдельным интересом. — Никогда не мешает узнать, чем другие люди живут.
Поскольку всеми владело замешательство, поскольку никто еще не догадывался о подлинных масштабах происходящего, поскольку, наконец, все было лучше, чем продолжать разговор, ирландца поймали на слове. О'Лайам-Роу удобно облокотился о покрытый бархатом стол, придворные молча встали рядом, а бородач быстро выбрал себе партнера и стремительно начал игру.
Оба были прекрасными игроками, а значит, позволяли себе рискнуть и иногда ошибались. Попадал ли мяч в сетку, подпрыгивал ли кто-то впустую, ронял ли ракетку или стоял разинув рот, пока мяч перелетал в дальний угол площадки, — ничего не укрывалось от О'Лайам-Роу, все подмечал он и комментировал под сурдинку своим мягким голосом. Беспощадный, не спускающий ничего, словоохотливый, безошибочно точный, парящий в заоблачных высотах чисто ирландской иронии, он подмечал и удар по пальцу, и пропущенную подачу, и выступивший пот, и лопнувший шов на одежде, и то, как один из игроков, поскользнувшись, проехался по траве. Не укрывались от него и развившийся локон, и столкновение с сеткой на бегу — все замечал он и сообщал окружающим, спокойно и безжалостно, пока наконец де Женстан, который слушал и вполголоса переводил, не выдержал и громко расхохотался; все остальные, забыв о приличиях, последовали его примеру. Раздался всеобщий оглушительный рев. Игроки уже давно обратили внимание на непрестанный двухголосый лепет я теперь обернулись, и на лицах их был написан гнев — и тут с великолепным, оглушительным звоном маленький мячик попал в окно.
Мягкий голос ирландца перестал наконец звучать, но придворные все еще смеялись, безудержно, взахлеб. Человек в белом отшвырнул ракетку, схватил своего партнера за руку и быстрыми шагами отправился с площадки прочь. Смех прекратился. О'Лайам-Роу, подняв свои светлые брови, поглядел вверх на сьера де Женстана, лицо которого из багрового вдруг сделалось белым.
— А теперь, — промолвил он бодро, — может, вы все-таки приведете сюда того парня — надо поговорить.
Они подчинились, боясь за себя, — своим неуместным хохотом придворные явно поставили себя в ложное положение. Оба игрока кипели от ярости, и через площадку можно было видеть, как выкручивается де Женстан, извиняясь. Выдумывая объяснения, гораздо более приемлемые, чем сам О'Лайам-Роу мог бы сочинить, имей он хоть отдаленнейшее намерение что-либо объяснять и извиняться. Он поднялся из-за стола и ждал, ухмыляясь, и вот чернобородый, все еще с краской гнева на лице, оставил окруживших его людей и подошел к ирландцу.
— А теперь бы я выпил, если бы угостили, — весело проговорил О'Лайам-Роу, — да шепнул бы вам на ушко пару ласковых слов. Ведь вы, французы, храни вас Боже, народ ограниченный, и пора бы вам узнать кое-что о более культурных соседях, каковы ирландцы. И на этот раз, де Женстан, мальчик мой, переводи все, а не так, как раньше, divina proportio: [9] три словечка из трех сотен, остальное же — ужимки да гримасы.
Богато изукрашенные кубки были наполнены.
— Его величество говорит, — произнес измученный переводчик, стоящий за спинкой кресла, в которое уселся бородач, — он говорит, что желал бы уменьшить различия между Францией и Ирландией.
— О, только не забывайте англичан, — сказал О'Лайам-Роу. — Они правят нами вот уже три сотни лет, а мы терпим, как и вы терпели, хотя те, что явились из Нормандии, уж до чего были жадные до налогов — не хуже вас, французов.
— Его величество интересуется, — переводил де Женстан, — уж не сравниваете ли вы, случайно, его правление с правлением англичан?
— О Боже мой, да как мне такое могло прийти в голову? — промолвил О'Лайам-Роу, и его веснушчатое лицо расплылось в улыбке. — У вас все, конечно, порядком выше. Теперь вот еще конкордат 10). Зачем, спрашивается, из кожи вон лезть, чтобы встать во главе всемирной церкви, если с этим вашим конкордатом только свистни — и аббаты, епископы, архиепископы приползут на брюхе: и денежки найдут, и любую услугу окажут?
Некоторое время все молчали.
— Король говорит, — перевел наконец де Женстан, — что эти вопросы не будут обсуждаться на сегодняшней встрече, которая всего лишь…
Улыбка О'Лайам-Роу преисполнилась злорадства.
— Не будут обсуждаться! Мальчик мой, да у нас в Ирландии повивальная бабка одной рукой держит ребенка над купелью, а другой прикрывает ему рот, чтобы он не начал ненароком что-нибудь обсуждать. — Он поставил кубок, поднялся и снисходительным жестом положил руку на плечо де Женстана. — Смойте с него духи, соскребите краску и в следующий раз выберите себе такого короля, который и обсудить бы мог что надо, и вел бы себя как мужчина. А с этого, право же, если все волосы сбрить и сделать из него Геркулеса Бандинелло 11), то в черепе для мозгов и места не останется.
Наступила мертвая тишина. Бородач, тоже вставший, глядел попеременно то на О'Лайам-Роу, то на переводчика, который еще больше побледнел. Де Женстан, беспомощно озираясь на своих товарищей, лица которых вдруг утратили всякое выражение, бормотал что-то нечленораздельное.
Человек в белом сделал глубокий вдох, сжал кулак и со всей силы ударил по столу. Упавшие кубки зазвенели. Красная струя поползла по бархату.
— Traduisez! [10] — вскричал он, и молодой человек, запинаясь, принялся переводить.
Слушая, чернобородый щелкнул пальцами. Пажи засуетились вокруг. На плечи ему набросили длинное одеяние и застегнули золотыми пряжками. Принесли цепь и повесили ему на грудь. На ноги вместо простых башмаков для игры обули расшитые туфли; подали белые кожаные перчатки и шляпу с пером.