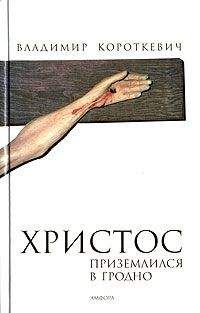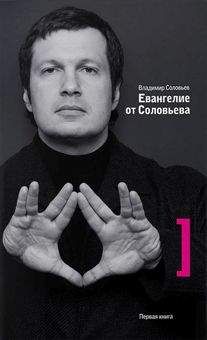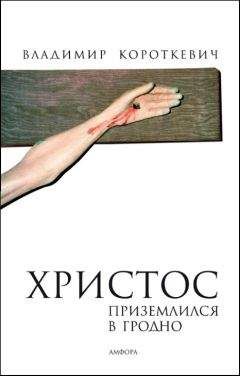— Го-го-го, га-га-га, гы-гык!
— Скажи, га! Вот так скажи!
— Забавник, га!
Христос в этот миг приближался к Бекешу. Тот чуть брезгливо, но доброжелательно смотрел на ободранного, заляпанного грязью человека, несущего крест. Христос поднял голову, и глаза их встретились.
Плыло, плыло навстречу Каспару загаженное, испаскуженное, всё в потёках крови и грязи лицо. И на этом лице, похожем на страшную, уродливую маску, сияли светлые, огромные, словно всю боль, всю землю и всё небо вобравшие...
...Бекеш содрогнулся.
Глаза.
Что было в этих глазах. Бекеш не знал, не понимал, не мог постичь. Слабая тень чего-то подобного жила только в глазах у его друзей и — он знал это — у него самого. Но только слабая тень. И только у подобных им, а больше ни у кого на земле.
Что это было? Возможно, Понимание. Понимание всех и всего. То, чем не владеет никто. А может, и что-то другое. Бекеш не знал. Но, поражённый, он весь, до дна содрогнулся, словно поняв себя, поняв многое, а на одно мгновение — всё.
Глаза!
Братчик смотрел на прекрасного юношу в берете и понимал, что с ним творится. Неповторимая, несравненная гримаса-улыбка искривила его лицо.
Бекеш, почти бессознательно, вцепился пальцами в стену.
Глаза...
Шествие минуло.
— Что с тобой, Каспар, сынок? — тревожно спросил брат Альбин.
— Ты видел? Я впервые увидел его так близко. Альбин, мы ошибались. Альбин, этот человек не обманщик, не плут. Альбин, он даже не самозванец. Он имеет право, слышишь? Это человек, Альбин. Такой, каким должен быть человек. И вот этого человека убивают. Где правда, Альбин? Где Бог? — Он захлёбывался: — Эти глаза... Ты видел? И гогочет это быдло. Гогочет... гогочет... го-го-чет. — Он ударил себя кулаком по голове. — Как же мы пропустили его? Как не подошли? А он спрашивал о великом маэстро. Закоренели в себе. Человека не увидели. Предали... Хохочут. Зачем же Данте жил, Боттичелли, Катулл?! Зачем, если напрасны все муки? Глаза... Это же всё равно как... всего Че-ло-ве-ка тысячи лет распинают! Святость его!.. А он всё величие и низость мира видит. А его... Пане Боже, это же богохульство!!!
Глава 59
ГОЛГОФА ЗАМКОВОЙ ГОРЫ
Ой, за яром гора, за другим гора,
А та гора да последняя...
Коня ведут. Конь спотыкается.
Да сердечко моё разрывается.
Песня.
Братчика подвели к подножию Воздыхальни и сняли с него крест.
Подавшись вперёд, ждали люди Вестуна. Суровыми были их лица, мрачными и решительными — их глаза, но никто не видел этого за капюшонами.
Крест понесли на вершину пригорка, где подручные палача уже копали яму. Летела оттуда и рассыпалась по склонам жёлтая земля. Христос тяжело дышал. Глаза его были закрыты. Толпа молчала. Когда смерть совсем близко, даже у врагов появляется какое-то подобие уважения.
Люди стояли так тесно, что если бы кто-то сомлел, так и остался бы стоять на ногах. Соседи не дали бы упасть.
Рыбник томился в этой давке и, странное дело, держал во рту большого копчёного леща. Вытаращенные гляделки безучастно смотрели в никуда. Сверлили толпу, удаляясь от этого места, Тихон Ус и Фома. Ухмылялись злобно.
— Ты вот что... — сказал Тумаш. — Как встанем на удобное место, как подам знак — прикрой меня плащом. Буду стрелять...
— Фома, — проговорил Ус. — Мучиться как он будет, ты понимаешь? Ты представь...
— Нет, — бросил Фома, догадавшись, о чём говорит друг. — Не сумею. Не поднимется рука. Но уж другим...
— Знаю. И у меня не поднялась бы.
Какой-то старик, из любопытных, тем временем всё заглядывал и заглядывал в лицо рыбнику. Очень удивлялся. И наконец отважился, обратился к странному соседу:
— Закусываешь, милый? И вкусно, наверное?
Рыбник молчал.
— Видите? — обратился дедуля к соседям. — Молчит, чудак. Чего молчишь?
— Да он, видать, по-оме-ер! — догадалась какая-то тётка.
Народ шарахнулся, очистив круг. И тогда рыбник упал. С маху. Всем телом.
— Поработали, — буркнул Фома. — И ещё поработаем. Я бы вот так целый день ходил да тюкал. Ублюдок разумнее мёртвый.
Они приткнулись за одним из контрфорсов. Фома встал за спиной Уса. Прямо перед ними была Воздыхальня, а чуть дальше — гульбище.
...Дыхание хрипло вырывалось из горла осуждённого. Кровь и грязь капали на одежду, подсыхали коркой на лице. Воспалённые глаза щурились от жгучего, нестерпимого солнечного света. Что-то словно молотом колотило в уши и череп. Плыли перед глазами ослепительно-зелёные и багряные крути. Бронзовозелёные большие мухи кружились над лицом, над рассеченной головой, у потрескавшихся губ.
Босяцкий на гульбище усмехнулся. Он был опытным. Он видел, что Христос, что враг вот-вот упадёт.
— Эй, лже-Христос! — крикнул он. — Попей!
И бросил с гульбища баклагу. Стражник ловко поймал её в воздухе. Увидел глаза Босяцкого и с пониманием дела опустил веки.
— На, — протянул, не выпуская из руки.
Юрась облизнул губы. И тогда стражник плеснул из баклаги ему в лицо. Братчик зажмурил глаза. С волос, с лица текло, мешаясь с грязью и кровью, красное вино. Губы Христа задрожали.
Бекеш глядел на это и стискивал кулаки.
— Паршивые свиньи, — шептал он. — Бархатные коты. Кажаны. Какая мерзость!
А вокруг нарастал и нарастал хохот. Шутка понравилась лучшим людям. Толпа смеялась. И только дитя на руках какой-то женщины надрывалось в неслышном среди смеха плаче.
Корнила смотрел на ребёнка. Несмотря ни на что, он любил детей, ибо они были совсем слабыми, и не мог выносить, когда они плачут. Кроме того, он много пережил за последнее время. И вот он стоял и смотрел, и даже постороннему глазу было видно, как что-то ворочается за этим низким лбом.
Он не сказал ни единого слова. Просто взял стражника своей страшной ручищей за шею, чуть сжал и, безо всякого выражения на лице, стукнул лбом о бревенчатый костёр. Этого оказалось достаточно: стражник лежал неподвижно. Корнила махнул рукой и пошёл к гульбищу.
Странно, эта обида и этот хохот возвратили Христу силы. Минута слабости длилась недолго. Когда перестали дрожать губы, он открыл глаза.
— Босяцкий! Лотр! Комар! — Голос звучал хрипло и шершаво, но вдруг прорезался, затрубил, загремел. — Вы — антихристы! Вы — гниль! Я умру! Я вызываю вас на суд Божий! Месяца не пройдёт, как мы встретимся! Месяца! Месяца! И тогда будете пить свою чашу вы!
Угроза была страшной. Хохот отсекло. И во внезапно упавшей тишине послышался мелодичный короткий звук, словно кто-то тронул струну.
— Пей, — шепнул Фома. — Пей первым. До этой шутки я хотел — не тебя...
Гульбище было устроено по тому же принципу, что и константинопольская кафизма; пол от глухой балюстрады понижался: отступишь шаг — и исчез. И потому никто не заметил, как и когда исчез, как отступил, как упал на спину монах-капеллан костела доминиканцев, друг Лойолы и его единомышленник Флориан Босяцкий.