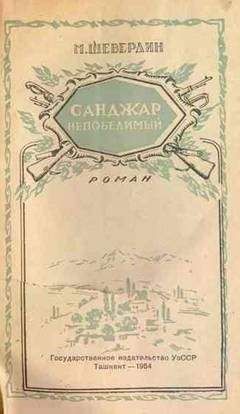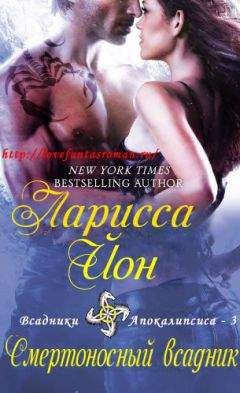Тогда вмешался Ниязбек. Он наклонился к скотоводу и шепотом сказал ему:
— Вернемся. — Громко он проговорил: — Спасибо, друг. Вы правы… Мы поедем завтра утром.
В полном молчании они поднялись на вершину холма, спешились и, крадучись, задами глиняных мазанок начали пробираться на кассанскую дорогу. Казалось, все благоприятствовало им: и разбросанность домов кишлака, и бесчисленные тропинки, пересекавшие во всех направлениях холм, и тьма безлунной ночи. Весь кишлак, как обычно бывает в степи, лег спать с заходом солнца, и даже собаки как–то нехотя и лениво ворчали, провожая беглецов.
Но выбраться из селения не удалось и по кассанской дороге. И здесь их поджидали. Более того, Ниязбек и Сайд Ахмад убедились, что за каждым их шагом следили. Ужас начал проникать в их души, когда они увидели, что кишлак Кенегес не выпускает их.
Пришлось вернуться.
Добравшись до михманханы, Ниязбек свалился на ковер.
— Что они хотят от нас? — бормотал Сайд Ахмад. Нижняя губа у него отвисла, обнажив желтые корешки гнилых зубов.
— Проклятая! — сорвалось с губ Ниязбека. — Это ваша жена разболтала всему свету. Свернуть надо подлой шлюхе шею… Где она?
Скотовод, не отвечая, возился с фонарем.
— Надо посмотреть, не подслушивает ли это дерьмо опять под дверью. Пойдите же! — крикнул раздраженно Ниязбек.
— Да нет же, я смотрел. Ее нет в доме. Когда мы уезжали, она спала. А теперь ее нет.
— Хорош муженек! Жена шляется где–то, треплет подол своей рубашки по чужим одеялам, а ему все равно.
— Молчите, мой бек! — в дрожащем голосе Сайд Ахмада зазвучало глухое раздражение. — Молчите о чужой жене. Вот скажите, что нам делать? А?
Ниязбек высыпал на скатерть драгоценные камни и начал раскладывать их на три кучки. В одну кучку он клал по три, в другую — по два и в третью — по одному камешку. Скотовод с интересом следил за ним, временами прислушиваясь к тому, что творится за дверью. Но там царила полная тишина. Наконец, он спросил:
— Что вы делаете, мой бек?
— Вот это эмиру, — показал Ниязбек на самую большую кучку, — а это вам. И он ткнул пальцем в самую маленькую.
Даже при слабом свете фонаря можно было заметить, что Сайд Ахмад передернулся. Он ничего не сказал, а только тяжело, с присвистом вздохнул. И этот вздох был так красноречив, что Ниязбек невольно поднял голову. Посмотрев на скотовода, он небрежно заметил:
— Что такое вы? Вы только оказавший нам гостеприимство. И ваша доброта возмещена сторицею. Каждый камешек — богатство, а смотрите сколько я вам отсыпал. Ну, так и быть великий эмир не сочтет за обиду, если… мы возьмем у него немножко.
И он небрежно взял из большой кучи горсточку камешков и подсыпал в самую маленькую. Поколебавшись немного, он отделил ребром ладони от эмирской доли изрядную часть и присоединил к своей.
— Их величество, — пояснил он, слегка усмехнувшись, — и так богат, и проживает в Кабуле в довольстве и достатке, а нас большевики обездолили и ввергли в нищету.
— Тогда… — Сайд Ахмад выразительно посмотрел на большую кучку камней.
Поколебавшись секунду, Ниязбек быстро–быстро начал делить эмирскую долю. Он посмеивался в усы, но, видимо, не совсем был спокоен, так как раз или два воровато оглянулся, как будто побаивался, что за ним следят.
Но вот он встал и потянулся:
— Ну, хозяин… Спасибо. Вы оставайтесь, а я уйду.
Он тщательно уложил мешочек в хурджун.
Только, тогда Сайд Ахмад заговорил.
— А я? А мы?
— Вы здешний… вас не тронут. Желаю вам всяческого благополучия.
Почтительно кланяясь и бормоча прощальные приветствия и пожелания. Сайд Ахмад подхватил хурджун и засеменил вслед за Ниязбеком. На дворе было по–прежнему темно. Только в вышине слабо мерцали затянутые дымкой звезды.
Перекинув через плечо поданный ему хурджун, Ниязбек перелез через дувал и, крадучись, начал выбираться из кишлака. Долго полз он на животе, замирая при малейшем шорохе. Крепкие, как железо, колючки раздирали кожу на руках и коленях, рвали одежду. Подавляя стоны и чуть слышно шепча ругательства, обливаясь потом, он все полз и полз. Уже последние дома остались позади, а Ниязбек не решался подняться на ноги.
Наконец он, совершенно обессиленный, свалился в неглубокую канавку.
Было все так же темно. Несмотря на страшную усталость и саднящую боль в руках, Ниязбек чувствовал небывалый подъем. Все ликовало в его душе. Он вырвался из лап кенегесцев. Клад в его руках. Он сунул руку в хурджун — и замер.
Мешочек исчез. Холодный пот выступил на лбу. Ниязбек колебался только минуту. «Нет! Сайд Ахмад не получит теперь ничего».
И он двинулся обратно. В ярости он забыл о всяких предосторожностях. Он вошел в кишлак и едва сделал несколько шагов по улочке, как его окружили дехкане с тяжелыми дубинками в руках. Зажгли фонарь.
— В чем дело? — прозвучал чей–то голос.
Ниязбек растерянно бормотал:
— Что вы хотите? Я уважаемый человек. Что вам надо от меня?
— Поистине, потерявший халат боится щипков. А что же ты ночью делаешь в степи?
— Хожу… Пройтись вышел…
Тот же голос проговорил:
— Пойдем!
— Куда?
— А вот сейчас увидишь.
Ниязбека повели. Он доказывал, угрожал… Его столкнули в яму из–под зерна. В углу зашевелился человек.
— Кто тут?
— А кто вы? — испуганно вскрикнул Ниязбек. — Боже, это вы, Сайд Ахмад?
— Не подходите! У меня нож, острый нож, — завизжал старик, — не приближайтесь.
Усевшись поудобнее на земле, Ниязбек удовлетворенно проговорил:
— И вы, любезный друг, здесь. Ну, я очень доволен: вошь попала под ноготь, очень доволен.
— Не подходите! — продолжал вопить Сайд Ахмад.
Наверху кто–то негромко заметил:
— Ворона вороне глаз выклюет.
Другой ответил:
— Кто попал в воду, сухим не выйдет, кто попал в могилу, живым не выйдет.
Ниязбек завернулся поплотнее в халат и затих. Он не сказал больше ни слова.
XVI
Горячий «афганец» прижимал тяжелую пелену серо–желтой пыли к белесой от выступившей соли степи, и от этого становилось все труднее и труднее дышать. Горы скрылись в дымке, горизонт сузился до маленького, совсем крохотного пространства вокруг невесть как выросшего среди великой суши единственного тополя. Хотя было и мрачно от того, что солнце превратилось в кирпично–красный круг, не столько светивший, сколько излучавший зной и жар, но глянцевая свежая зелень молодого деревца улыбалась истомленному путнику и приветливо манила его в слабую свою тень.
Прислонясь к бархатистой белой коре тополя, прямо на земле сидел великий назир. Его нежное, тонкое лицо потеряло обычную привлекательность. Оно побагровело и покрылось бурыми пятнами. Гримаса раздражения исказила его.