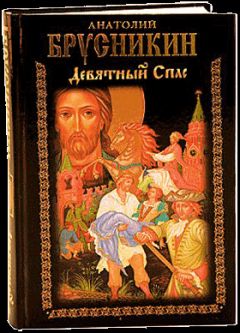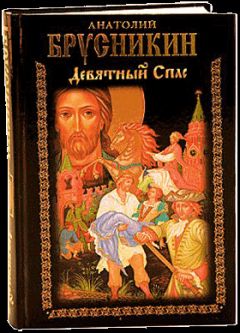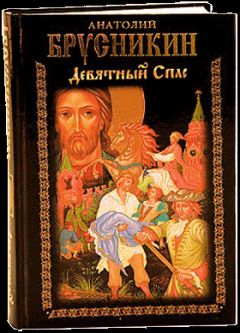Если Софья снарядит погоню, то пошлет конных во все четыре стороны. И скажут стрельцам: колымага с телегой были, к лесу уехали. Начальный человек наверняка от царевны знать будет, что у сбежавшей княгини в той стороне вотчина. И решит, конечно, что Авдотья к мужу подалась. Пришпорит погоня коней, понесется вскачь, присматриваться-принюхиваться позабудет.
А в лесу, прямо посередине, развилка. Прямо скакать – в Сагдеево, направо – невесть куда, в какую-то глухомань, налево же ведет дорога прямиком в Троицу. По ней Зеркалов и поедет.
Но и этой предосторожности стольнику мало показалось. Очень уж обидно будет по недостаточному разуму такую добычу потерять. Посему, доехав к утру до лесного перекрестка, к Троице он поворачивать не стал, а своротил в густые заросли. Вдруг стрелецкий начальник не дурак окажется и отряд на части поделит? Нет уж, лучше в кустах подождать, посмотреть, куда погоня поскачет.
Сели надолго, на весь день, дотемна. Попадаться на глаза прохожим да проезжим Автоному тоже было не с руки. С утра до вечера мимо проехало всего две телеги, да пробрели трое нищих, к Троице. А стрельцы так и не нагрянули. Видно, плоха Софья. Или поняла, что Автонома, если уж сбежал, не выловишь.
Это-то было хорошо. Сестра с младенцем очень уж Зеркалову надоели.
Авдотья своими расспросами, жалобами и нытьем: да как же, да что же, да почему уехали, да почему стоим, да живот подвело, да откуда у тебя, Автоноша, кровь на рукаве? К полудню проснулась и девчонка. Сначала повянькала тихонько. Потом, как проголодалась, заорала – хоть уши затыкай.
А Зеркалов тоже ведь не чугунный. Устал, ночью не спал, от дум лихорадит, жрать опять же охота.
На сестру можно рыкнуть, замахнуться – на время затыкается. А с пигалицей багрянородной что сделаешь?
К вечеру, когда терпение у бывшего стольника совсем кончилось, стал он всерьез задумываться: не придушить ли. Какая разница, мертвую он привезет Нарышкиным ублюдку, или живую. Но, подумав, от соблазнительной мысли отказался. Живая все-таки лучше. Будет расти где-нибудь в монастыре, под крепким государственным присмотром. Вот он, приплод Софьиного паскудства, всегда предъявить можно.
Яха догадался нажевать травы, обернул тряпицей, сунул крикухе в рот. Зачмокала, на время утихла.
Воспользовавшись передышкой, Автоном начал учить сестру, как и что в Троице на расспросе показывать. Что говорить, чего не говорить.
Она лишь ныне уразумела, как дело поворачивается, и от страха вовсе дурная сделалась.
Взбрело коровище в голову, что её беспременно пытать станут – кнутом драть да огнем жечь. Не поеду, вези меня домой – и всё тут. Пришлось стукнуть, чтоб не голосила.
Когда совсем темно стало и началась гроза, Автоном Львович решил, что можно ехать.
Крепкую казенную телегу мохнатые кони на дорогу легко вытянули, а в колымаге, будь она неладна, колесо с оси соскочило. Бились они с Яшкой, бились – никак. Зеркалов к черной работе не приучен, а у карлы руки ловки, да рост мелок. Вымокли насквозь, умаялись.
Пошел стольник, по Яхиной подсказке, молодой дубок искать, на рычаг, – колымагу приподнять.
Углубился в лес шагов, может, на сто. Вдруг свист, тревожный. Что такое? Понесся назад, напролом, через кусты.
На дорогу выскочил – молния ударила, осветила чудное: Яшка на ком-то верхом сидит, ножом замахивается. А на телеге, где бочонки и Спас, торчит мальчонка – в одной руке вожжи, в другой кнут – и орёт что-то.
Уж с утра погода злится,
Ночью буря настает,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот.
А.С. Пушкин
Услыхав, как трещат сучья под ногами Боярина, который со всех ног поспешал назад, Алёшка понял: мотать надо, и поживее.
– Илюха, кончай с ним! Пора! Митька, вылазь!
Проще бы всего в лес удрать, там не сыщут. Но как бабу с дитём бросишь? Она, бедная, обомлела со страху, съёжилась под рогожей. Дитё, понятно, орёт-надрывается. А и зачем ноги стаптывать, когда лошадки есть?
Лёшка изготовился хорошенько хлестануть по широким лошадиным спинам, нетерпеливо обернулся – ай, плохо дело!
Парнюга, что Митьку сбил, сумел подмять Илейку, да нож над ним занёс!
Дёрнул Алёшка рукой, в которой кнут. Кожаным прошитым концом стегнул гаденыша по костяшкам – нож прочь вылетел. Молния погасла, и что там дальше было, попович не разглядел. Должно, оглянулся ворёнок, как ему было не оглянуться. Ну, Илейка и вывернулся, исхитрился как-то. Заскочил на телегу, кричит:
– Гони!
– А Митька?
Не было Митьки. Верно, в лес дунул. И правильно. Ждать его было нельзя.
Кнутом, что было мочи, Лёшка лупанул по коням – раз, другой. Те всхрапели, рванулись. Сзади, хлюпая по грязи, бежал кто-то. Татёнок, неугомонный!
Ну, Алёшка ему ещё разок наддал, теперь уж не по руке – по роже. Кувырком полетел!
– Видал, как я малого? – похвастался довольный собой Алёша.
– Он не малой, он старой, – непонятно ответил Илейка, стуча зубами. – Гони! Гони!
Кони понемногу разбегались, но надо б побыстрей. Что с них взять – не рысаки, да телега тяжелым гружена.
Эх, не поспели. Выскочила на дорогу черная тень. Страшный голос проорал:
– Стой, застрелю!
Как назло, полыхнула зарница – будто нарочно, разбойнику в помощь.
Он бежал сзади, близко. В одной руке сабля, в другой пистоль.
А может, наоборот, только зарница мальчиков и спасла. Кабы не она, не стал бы Боярин в темноте зря пулю переводить. Догнал бы да иссёк клинком. Ныне же остановился, вскинул огненное оружье, прицелился прямо в возницу.
– Матушка! – взвизгнул Алёшка, воззвав то ли к попадье-покойнице, которую не помнил, то ли к Богородице.
И маменька, а может, Матерь Небесная, заступилась за сироту. Щёлкнул пистоль, а выстрелить не выстрелил. Видно, от дождя порох отсырел. Или фитиль перекосило. Ну, а когда лиходей отшвырнув бесполезную железяку, вновь догонять кинулся, тут уж поздно было. Кони, родимые, наконец на разгон пошли. Им на четырех ногах ловчей, чем разбойнику на двух, по скользкому. Лёшка толкнул локтем друга.
– Уходим! Уходим!
Сзади из темноты донеслось:
– Яха, коней из колымаги выпрягай! Быстрей, мать твою, быстрей!
Догонять будут. Илья вырвал кнут, оставив товарищу вожжи. Принялся нахлёстывать сам.
Телегу кидало по мокрой, заросшей травами дороге, из стороны в сторону.
– Не туда едем! – крикнул вдруг Илья. – Надо было к деревне, а ты назад к мельне повернул!
Алёшка огрызнулся:
– Сам бы поворачивал. До того ль было?