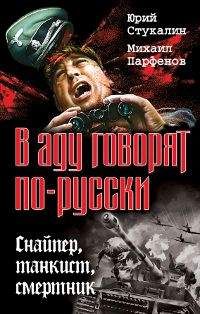Совсем разомлевший от слабости и тепла отец попросился в дом. Подоспевший Добрец завернул его в сухую холстину, легко поднял и отнес на постель. Когда из мовницы вышел и Ягила, тот уже спал. Обеспокоившись, он склонился над отцом — жив ли? Тот дышал тихо, совсем по-детски, и лик его был спокоен и умиротворен: видно, и во сне радовался — дома!..
Трапезничали одни.
Ягила горячо поблагодарил богов за помощь в избавлении отца от кабалы и возвращение его в семью, принес им жертвы, и они приняли их.
Добрец и Блага ерзали на лавке в нетерпении скорее узнать, как все это произошло. Но старший молчал, сосредоточенно очищал от снеди миски и, лишь покончив с обедом, радостно улыбнулся:
— Вот ведь как любят нас наши светлые боги! И в долгих мытарствах сберегли нам отца, и знать дали, что тут, что надо спасать… Наверно за верность нашу.
— Где же он пропадал столько лет? — задумался Добрец. — Целых семь… Не иначе где-то очень далеко.
— Отдохнет, придет в себя — расскажет. Не будем торопить, — кивнул ему Ягила. — Пусть сначала окрепнет, а то в нем одна душа осталась.
— А сказ, поди, будет длинный, — поддержала его Блага и нежно посмотрела на Добреца. — Семь лет — это вам не на торг съездить. И не баснь[17] занятная, а жизнь.
— По всему, тяжелая была эта жизнь. А с тобой, Добрец, у меня разговор есть. Пойдем в сад.
Устроившись в густой тени под яблоней, сели на старую щербатую лавку, и Ягила стал рассказывать, что видел сегодня по дороге в Сурож и в порту его. Эти ненасытные эллины с хазарскими иудеями превратили их родной город в позорный торг людьми. Корабль за кораблем уходят через море в Амастриду, где их перепродают другим. Надо отвадить этих гнусных торгашей от Сурожа. Не для того построили его их пращуры. И отвадить можно, если иметь бесстрашное сердце и крепкие мечи.
— Подумай об этом, брат. Ты у нас воин, через большие сечи прошел, тебе это с руки. А потом потолкуем вместе. Только чтобы ни одна живая душа… понял?
— Подумаю, брат. Горячая мысль твоя по сердцу мне.
— Да будет тебе советчиком бог Перун!
По совету друзей Петр Петрович Дубровский создал у себя в квартире нечто вроде музея, где каждое вывезенное из Франции приобретение заняло свое достойное место. Расставаться с чем-либо пока не хотелось, так все было дорого, так прикипело к сердцу. Хотя понимал, что быть обладателем всего этого богатства лишь ему одному слишком уж эгоистично, не по совести: не для себя одного старался. Одержимым накопителем-коллекционером или корыстным торговцем-антикваром он не был.
Теперь почитатели и знатоки старины бывали у него часто. Профессиональные ученые, искренние библиофилы, любители всяческих искусств, просто высокообразованные люди — все находили в его музеуме что-то для себя интересное.
Петр Петрович водил их от экспоната к экспонату, любовно представлял свои древности, особенно книги из библиотеки Анны Ярославны, и не уставал напоминать:
— Все это, господа, еще не изучено, не истолковано, многое не переведено. Впереди работы непочатый край. Подождем, потерпим. Чует мое сердце, что со временем нам откроется такое, что наши историки не раз ахнут.
Кто-то посоветовал хотя бы часть коллекции передать в Академию наук, в государственное хранилище и сам тут же спохватился:
— Нет, нет, Петр Петрович, ни в коем разе! Наши немцы это мигом проглотят. Разворуют и за рубеж продадут! Нет на них Ломоносова!
— Тогда, может, в императорскую библиотеку? — неуверенно сказал другой.
— Какая разница? Они же и там, как у себя дома. Выгребли все ценное, ищи теперь!
— Ничего никому никуда не передавать! — на корню пресек этот разговор Гаврила Романович Державин. — Богатства сии принадлежат России, и мы все за них в ответе. Перед будущим. Спасибо тебе, голубчик Петр Петрович, за труды твои.
Слух о «бесподобном музее» Дубровского прошел по всей столице, и народу к нему повалило столько, что он испугался. Особенно насторожило его настойчивое внимание к своей библиотеке и к собственной персоне господ из Святейшего Синода. Церковь, как известно, изначально враждебно относилась к язычеству, безжалостно и невежественно уничтожала все связанное с ним, а тут столько как раз такого, древлеотеческого! Не приведи господь, засунут свой длинный нос поглубже, или, хуже того, подошлют кого из понимающих! Да и немцы наши тоже себе на уме.
Поделился своими опасениями с Державиным. Тот вальяжно отмахнулся надушенной ручкой:
— Не изволь волноваться на сей счет, любезный Петр Петрович. Пока я министр юстиции и член Государственного Совета в сей империи, да и пиит, богами пожалованный, никто обидеть тебя не посмеет. Но и ты зри, зри, не беспечествуй, ибо сам главный ответчик тут!
Петр Петрович несколько успокоился такой высокой опекой, но доступ в свою квартиру все-таки приужил: мало ли что. А потом здесь стали собираться члены общества «Беседа любителей русского слова», все господа важные, известные своей ученостью и близостью ко двору, так что он успокоился окончательно. Наряду с Державиным, Карамзиным, Строгановыми, Воронцовыми, Неклюдовыми, Сухтеленом, Сулакадзевым членом этой «Беседы» стал и он.
И все-таки через несколько лет гром грянул, хотя и грозовых туч в небе вроде бы не было. По чьему-то злому навету его опять изгнали со службы, намекнули на ссылку. Не помогло на этот раз и заступничество Гаврилы Романовича, ибо ни министром, ни членом Государственного Совета тот уже не был. Как жить дальше, на какие средства содержать семью?
Срочно пригласил к себе на чай Сулакадзева. Тот явился, встревоженный:
— Что-то случилось, Петр Петрович?
— Случилось, извольте знать… Опять не угодил кому-то, места лишили, — тяжко вздохнул тот. — А жить как-то надо…
Помолчали, позвенели ложечками в стаканах.
— Слишком много шума с твоим музеумом получилось. Не поделился, не уважил. Уж очень большие аппетиты у многих на твои манускрипты.
— Знамо, у кого… Что бы ты сделал на моем месте?
Сулакадзев долго озадаченно молчал.
— Ну, друг любезный, говори. На твое слово я очень надеюсь, плохого не посоветуешь.
— Тяжко мне это слышать. Еще тяжелее говорить…
— А ты все-таки скажи. На твои слова я не обижусь, знаю тебя: от чистого сердца слова будут.
— Ну, тогда послушай. А решать тебе самому…
И они решили: все менее значимое, вроде переписки, отдельных свитков и листков, предложить императорской библиотеке. И не в подарок — пусть выкупают, ведь и он в Париже выложил за них немалые деньги. Ну а главное, поистине бесценное, староотеческое приватно предложить самым надежным и близким друзьям — Строгановым, Неклюдовым, к примеру. Пусть хранят до лучших дней. На них надеяться можно.