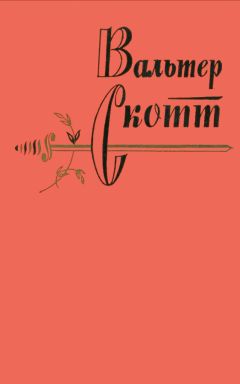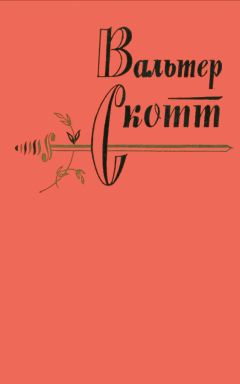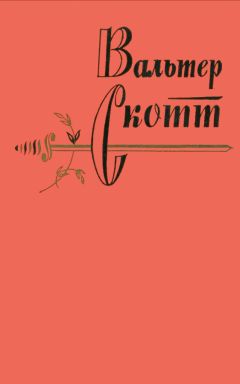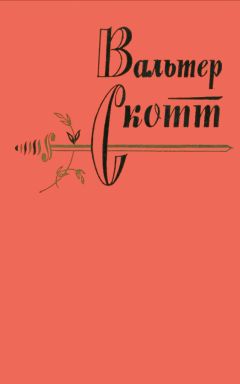— Клара Моубрей! — воскликнул Тиррел. — Вот как мы наконец свиделись! Стойте, не уходите, — добавил он, так как она сделала движение, чтобы уйти, — останьтесь, останьтесь, сядьте.
— Мне надо идти, — ответила она, — надо идти, меня зовут. Ханна Эруин пошла вперед, чтобы все сказать, и я должна идти за ней. Вы меня не отпускаете? Если вы станете удерживать меня силой, я, конечно, должна буду сесть, но надолго меня вы все-таки не удержите.
Тут с Кларой сделался сильнейший приступ судорог, подтверждавший, что ей и вправду предстоит последний путь во мрак. Служанка, явившаяся наконец на крики и звонки Тиррела, придя в ужас от этого зрелища, тотчас же убежала в пасторский дом и, как мы уже знаем, сообщила там о случившемся.
Старая хозяйка гостиницы, для которой одно печальное событие сменилось другим, только дивилась на обратном пути, как это за одну ночь может произойти столько бед. Каково же было ее удивление, когда, вернувшись к себе, она нашла там девушку из дома, который всегда был ей дорог, хотя она давно не имела с ним общения, и нашла в состоянии почти полного безумия, причем у хлопотавшего подле нее Тиррела оставалось немногим больше душевных сил, чем у несчастной больной.
Чудачества миссис Додз были только поверхностной ржавчиной на ее характере, не затронувшей его прирожденную энергию и нравственную силу. Сострадание, которое она испытывала, отнюдь не лишало ее способности мыслить и действовать с решительностью, требуемой обстоятельствами.
— Мистер Тиррел, — сказала она, — мужчина тут лишний. Вставайте и уходите в другую комнату.
— Я не двинусь отсюда ни на шаг, — заявил Тиррел. — Я не оставлю ее ни на миг, пока она или я еще живы.
— Это недолго будет продолжаться, мистер Тиррел, если вы не прислушаетесь к голосу рассудка.
Тиррел встал, словно до него дошло кое-что из ее слов, но стоял, не двигаясь с места.
— Ну, ну, — сказала сострадательная хозяйка, — нечего вам стоять и смотреть на зрелище, от которого перевернется сердце и почерствее вашего. Вы сами должны понять, что нельзя вам здесь оставаться, а мы хорошо позаботимся о мисс Кларе, и я каждые полчаса буду извещать вас, как она себя чувствует.
Тиррел не мог отрицать ее правоты и потому позволил увести себя в другую комнату, оставив мисс Моубрей на руках хозяйки и ее помощниц. В смертельной тревоге отсчитывал он время не столько по часам, сколько по тому, как часто верная своему обещанию миссис Додз появлялась возвестить ему: сперва — что Кларе не лучше, затем — что ей хуже, потом — что она, по всей видимости, не доживет до утра. Доброй хозяйке пришлось прибегнуть ко всем мольбам и уговорам, на какие она только была способна, чтобы удерживать Тиррела, обычно спокойного и хладнокровного, но приходившего в безудержное неистовство, когда в нем начинали говорить страсти: он непременно хотел ворваться в комнату больной и собственными глазами убедиться, как чувствует себя его возлюбленная. Наконец наступил долгий промежуток — несколько часов, — настолько долгий, что Тиррел начал обретать радостную надежду: ему казалось, что Клара спит и сон может восстановить ее душевные и телесные силы. Миссис Додз, решил он, не входит к нему, чтобы не потревожить забытье больной. И, словно движимый теми же чувствами, какие он приписывал ей, Тиррел перестал расхаживать от волнения взад и вперед по комнате и, бросившись на стул, старался не пошевелить даже мизинцем и задерживал, сколько мог, дыхание, как будто он сидел у изголовья больной.
Было уже довольно позднее утро, когда хозяйка снова вошла к нему с лицом серьезным и озабоченным.
— Мистер Тиррел, — сказала она, — вы христианин.
— Тсс, тсс, ради бога! — прошептал он. — Вы потревожите мисс Моубрей.
— Ее, бедняжку, уже ничто не потревожит, — сказала миссис Додз. — Но те, кто довел ее до этого, должны получить по заслугам.
— Да, должны, должны, — произнес Тиррел, ударяя себя кулаком по лбу, — и я отомщу за нее всем и каждому! Можно мне увидеть ее?
— Лучше не надо, — ответила добрая женщина, но он пронесся мимо нее и ворвался в комнату.
— Она мертва? Не осталось ни искры жизни? — вскричал он, обращаясь к местному врачу, достойному человеку, которого вызвали ночью из Марч-торна. Медик покачал головой. Тиррел бросился к кровати и собственными глазами убедился, что существо, чьи горести он и вызвал и разделил, уже нечувствительно ко всем земным страданиям. С воплем отчаяния схватил он бледную руку умершей, орошал ее слезами, покрывал поцелуями и некоторое время вел себя как человек, лишившийся рассудка. Под конец, вняв беспрерывным уговорам и просьбам присутствующих, он дал увести себя в другую комнату, куда за ним последовал врач, желая хоть немного облегчить его горе теми скорбными утешениями, которые еще были в данном случае возможны.
— Раз вы принимаете так близко к сердцу участь этой девушки, — сказал он, — для вас, может быть, будет утешением, хотя и грустным, если вы узнаете, что причиной смерти явилось давление на мозг, вероятно сопровождавшееся кровоизлиянием. По симптомам, которые я наблюдал, могу смело сказать, что, если бы даже удалось спасти жизнь больной, рассудок не возвратился бы к ней никогда. В подобном случае, сэр, даже самые любящие родственники должны признать, что смерть — благо по сравнению с таким существованием.
— Благо? — переспросил Тиррел. — Почему же мне в нем отказано? Знаю, знаю почему! Я должен жить, пока не отомщу.
Он вскочил со стула и быстро сбежал вниз по лестнице. Но у самых дверей гостиницы его остановил Тачвуд, который только что с самым тревожным и мрачным выражением лица вышел из подъехавшего экипажа.
— Куда это вы? Куда? — спросил он, хватая Тир-рела за плечо и с силой останавливая его.
— Мстить! Мстить! — вскричал Тиррел. — Прочь с дороги, не то — берегитесь!
— Отмщение принадлежит богу, — произнес старик, — и он поразил виновного. Сюда, сюда, — продолжал он, таща Тиррела в дом. — Знайте, — сказал он, как только привел или, вернее, втолкнул его в комнату, — что Моубрей Сент-Ронан полчаса назад дрался на поединке с Балмером и убил его на месте.
— Убил? Кого? — переспросил пораженный Тиррел.
— Вэлентайна Балмера, названого графа Этерингтона.
— Вы принесли весть о смерти в дом, который посетила смерть. И мне теперь не для чего жить, — ответил Тиррел.
Вот и конец, затем что
продолженье —
Унылая, бесцветная тоска
Художника манят ущелья, скалы,