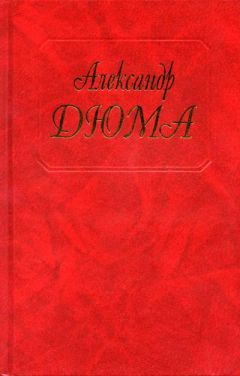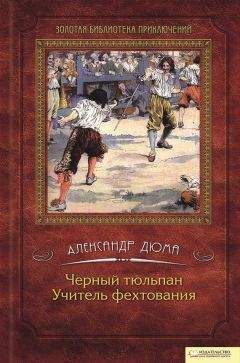VII
СУДЬИ
Когда друзья встретились после первого допроса о восковой фигурке, Коконнас сказал Ла Молю:
— Ну, дорогой друг, по-моему, все идет прекрасно, и в ближайшее время сами судьи откажутся от нас, а это совсем не то, что отказ врачей: врач тогда отказывается от больного, когда уже нет надежды его спасти; если же судья отказывается от обвиняемого — это значит, что у судьи нет надежды отрубить ему голову.
— Да, — ответил Ла Моль, — мне даже думается, что эта учтивость и обходительность тюремщиков, эти сговорчивые двери наших камер — дело преданных нам подруг; по крайней мере, я просто не узнаю Болье — судя по тому, что я о нем слышал.
— Ну, я-то его очень узнаю, — ответил Коконнас, — но только это стоило дорого; да о чем тут говорить: одна — принцесса, другая — королева; обе богаты, а лучшего случая употребить на благо свои деньги у них не будет. Теперь вкратце повторим наше задание: нас отводят в часовню, оставляют там под охраной нашего тюремщика; в условленном месте мы находим кинжалы, я протыкаю живот тюремщику…
— О нет-нет, только не в живот, — так ты его лишишь пятисот экю; бей в руку.
— В руку? Нет, так беднягу только подведешь! Сразу увидят, что у нас с ним сговор. Нет-нет, надо в правый бок, вскользь по ребрам; такой удар похож на настоящий, но безвреден.
— Ладно, пусть так; а затем…
— Затем ты завалишь входную дверь скамейками; наши принцессы выбегут из алтаря, и Анриетта откроет дверь ризницы. Честное слово, теперь я люблю Анриетту; наверное, она мне изменила, если я взялся за ум.
— А затем мы скачем в лес, — затрепетав от радостного волнения, подхватил Ла Моль. — Каждому из нас довольно одного поцелуя, чтобы стать веселым и сильным. Ты представляешь себе, Аннибал, как мы несемся, пригнувшись к нашим быстрым скакунам, а сердце сладко замирает от страха? О, этот страх в предчувствии опасности! Как он хорош на воле, когда у тебя на боку хорошая шпага, когда кричишь «ура», давая шпоры коню, а он при каждом крике наддает и уже не скачет, а летит!
— Да, Ла Моль, но что ты скажешь о прелестях страха в четырех стенах? Кое-что в этом роде я испытал и могу рассказать. Когда бледная физиономия Болье впервые появилась в моей камере, а позади него блеснули алебарды и зловеще лязгнула сталь, — клянусь тебе, я сразу же подумал о герцоге Алансонском и так и ждал появления его мерзкой рожи между двумя противными башками алебардщиков. Я ошибся, и это было моим единственным утешением; но все же их посещение не прошло бесследно: ночью я увидал герцога во сне.
— Да, — продолжал Ла Моль, следуя за своей приятной мыслью, а не за мыслью своего друга, блуждавшей в области фантазии, — да, они все предусмотрели, даже место нашего пребывания. Мы едем в Лотарингию, дорогой друг. По правде, я бы предпочел Наварру; в Наварре я был бы «у нее», но Наварра слишком далеко, Нанси удобнее, это всего в восьмидесяти лье от Парижа. Знаешь, Аннибал, о чем я буду сожалеть, когда выйду отсюда?
— Честное слово, нет… Что касается меня, то все сожаления я оставлю здесь.
— Мне будет жаль, что мы не сможем взять с собой этого почтенного тюремщика, вместо того чтобы его…
— Да он и сам не захочет, — возразил Коконнас, — он слишком много потеряет: подумай, пятьсот экю от нас да вознаграждение от властей, а может быть, и повышение по службе. Как этот молодец будет хорошо жить, когда я его убью! Но что с тобой?
— Так… ничего… У меня мелькнула одна мысль.
— Видно, не очень веселая, то-то ты побледнел?
— Я спрашиваю себя: а зачем нас поведут в часовню?
— Как зачем? Для причастия, — ответил Коконнас. — Думаю, что так.
— Нет, — сказал Ла Моль, — в часовню водят только осужденных на смерть или после пытки.
— Ого! Это стоит разузнать, — ответил Коконнас, тоже побледнев. — Спросим доброго человека, которого мне придется потрошить. Эй, друг! Ключарь!
— Вы меня звали, месье? — спросил тюремщик, карауливший на верхних ступенях лестницы.
— Да, поди сюда.
— Слушаю, месье.
— Условлено, что мы бежим из часовни, так ведь?
— Тсс! — произнес ключарь, с ужасом оглядываясь.
— Будь покоен, нас никто не слышит.
— Да, месье, из часовни.
— Значит, нас поведут в часовню?
— Конечно, таков обычай.
— Так это обычай?
— Да, после вынесения смертного приговора осужденным накануне казни полагается провести ночь в часовне.
Коконнас и Ла Моль вздрогнули и переглянулись.
— Вы полагаете, что нас осудят на смерть? — спросил Ла Моль.
— Непременно… да вы и сами так думаете.
— Почему же?
— Конечно… если бы вы думали иначе, вы бы не стали подготовлять себе бегство.
— А знаешь, он рассуждает очень здраво, — заметил Коконнас.
— Да… по крайней мере, теперь я знаю, что мы играем в опасную игру, — ответил Ла Моль.
— А я-то, — сказал тюремщик, — думаете, не рискую? Вдруг месье от волнения ошибется и ударит не в тот бок!..
— Э, дьявольщина! Я бы хотел быть на твоем месте, — возразил Коконнас, — чтобы иметь дело только с этой рукой и только с тем железом, которым я тебя коснусь.
— Смертный приговор! — тихо произнес Ла Моль. — Нет, это невозможно!
— Невозможно? Почему же? — простодушно спросил тюремщик.
— Тсс! — произнес Коконнас. — Мне показалось, что внизу отворили дверь.
— Верно, — заволновавшись, подтвердил тюремщик. — По камерам, господа, скорее!
— А когда, вы думаете, нам вынесут приговор? — спросил Ла Моль.
— Самое позднее — завтра. Но не беспокойтесь: тех, кого надо, предупредят.
— Тогда обнимем друг друга и простимся с этими стенами.
Друзья горячо обнялись и вернулись в свои камеры: Ла Моль — вздыхая, Коконнас — что-то напевая.
До семи вечера ничего нового не произошло. На Венсенскую башню надвинулась темная, дождливая ночь — самая подходящая для бегства. Коконнасу принесли ужин, и он поужинал с аппетитом, предвкушая удовольствие вымокнуть на дожде, хлеставшем по стенам замка. Он уже готовился заснуть под глухой, однообразный шум ветра, к которому не раз прислушивался с неведомым до тюрьмы тоскливым чувством, но теперь ему показалось, что ветер как-то необычно стал поддувать под двери, да и печь тоже гудела с большей яростью, чем обычно: так бывало каждый раз, когда открывали верхние камеры, а в особенности — камеру напротив. По этому признаку Коконнас всегда знал, что тюремщик выходит от Ла Моля и сейчас зайдет к нему.
На этот раз, однако, Аннибал тщетно вытягивал шею и напрягал слух. Время шло, никто к нему не приходил.
«Странно, — рассуждал Коконнас, — у Ла Моля отворили дверь, а у меня нет. Быть может, его вызвали на допрос? Или он заболел? Что бы это значило?»