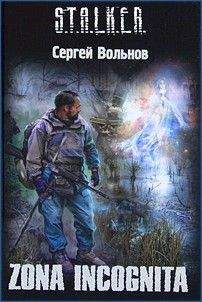Пилигрим проводил Корнадеса в сад отцов-целестинов и, присев рядом с ним на скамью в одной из самых безлюдных и уединенных аллей, так начал ему рассказывать историю своего родителя:
История Диего Эрваса, рассказанная сыном его, Проклятым ПилигримомМеня зовут Блас Эрвас. Отец мой, Диего Эрвас, в юном возрасте посланный в Саламанку, поразил весь тамошний университет необычайным рвением к наукам. Вскоре он намного опередил своих коллег, несколько же лет спустя знал больше всех своих профессоров. И тогда, запершись в своей каморке, где он корпел над глубочайшими творениями первейших знатоков во всех науках, он возымел благую надежду достичь такой же славы, как они, и вознамерился ещё настолько прославить своё имя, дабы оно впоследствии упоминалось благодарными потомками вместе с именами знаменитейших ученых всех времен и народов.
С этой жаждой, как видишь, совершенно неумеренной, Диего сочетал ещё и другую. Он хотел издавать свои творения анонимно и только тогда, когда ценность их будет всеми признана, открыть своё имя и прославиться сразу и навеки. Возмечтав об этом, он рассудил, что Саламанка — это отнюдь не тот небосклон, на коем великолепная звезда его судьбы могла бы обрести надлежащий блеск, и обратил свои взоры к Мадриду. Там, без сомнения, люди, отмеченные гением, умели снискать надлежащее им уважение, великие почести, высокое доверие министров и даже милость короля.
Диего вообразил затем, что только столица способна по справедливости оценить его необыкновенное дарование. Юный наш ученый неотступно размышлял о геометрии Картезиуса, анализе Гарриота,[256] о произведениях Ферма[257] и Роберваля.[258] Он ясно видел, что великие эти гении, прокладывая дороги науки, все же двигались вперед неуверенным шагом. Он сочетал воедино все их открытия, присовокупил к оным соображения, кои до сих пор никому и в голову не приходили, и представил поправки к употребляемым тогда логарифмам. Эрвас около года трудился над своим детищем. В те времена сочинения геометрического характера писались только по-латыни; заботясь о большем распространении своего труда, Эрвас написал его по-испански; ради усиления же общего интереса он озаглавил этот труд следующим образом: «Открытие тайны анализа бесконечно малых, с присовокуплением известия о бесконечностях в каждом измерении».
Когда рукопись была уже завершена, мой отец как раз отметил своё совершеннолетие и получил по этому поводу уведомление от своих опекунов; одновременно они свидетельствовали ему, что его состояние, которое, как полагали вначале, равнялось восьми тысячам пистолей, по причине разных непредвиденных обстоятельств сократилось до восьмисот пистолей, каковые, после подписания им правительственной квитанции о выходе из-под опеки, немедленно будут ему вручены. Эрвас подсчитал, что ему потребуется именно восемьсот пистолей на оплату за издание его манускрипта, а также на расходы, связанные с поездкой в Мадрид; посему он с легкой душой подписал опекунскую квитанцию, получил деньги и представил рукопись в цензуру. Цензоры из богословского отделения начали было ставить ему препоны, поскольку анализ бесконечно малых величин, по их мнению, способен был привести к атомам язычника Эпикура,[259] учение коего было небезосновательно проклято церковью. Когда же им было объяснено, что речь в данном случае идет всего лишь об отвлеченных величинах, а вовсе не о неких материальных частицах, суровые цензоры смягчились и перестали упорствовать.
Из цензуры рукопись отправилась к типографщику. Это был исполинский том in octavo,[260] для обнародования коего следовало отлить недостающие алгебраические символы и прочие знаки. Таким образом, напечатание тысячи экземпляров обошлось юному автору в семьсот пистолей. Впрочем, Эрвас тем охотнее пожертвовал ими, что надеялся за каждый экземпляр получить по три пистоля, что обещало ему две тысячи пистолей чистого барыша. Хотя он не был корыстолюбив и не гнался за доходом, однако испытывал известную приятность, мечтая о заприходовании этой кругленькой суммы.
Печатание длилось свыше полугода. Эрвас сам держал корректуру, и нудное это занятие стоило ему больших усилий, нежели само сочинение. Наконец, самая вместительная повозка, какую только можно было найти в Саламанке, доставила к дверям его квартиры огромные тюки, содержимое коих, как он чистосердечно надеялся, обещало ему великую славу при жизни и бессмертие в грядущем.
На следующий день Эрвас, упоенный радостью и одурманенный надеждой, навьючил своим творением восемь мулов, сам сел на девятого и отправился в Мадрид. Прибыв в столицу, он спешился у лавки книгопродавца Морено и возвестил оному книжнику:
— Сеньор Морено, сии восемь мулов доставили девятьсот девяносто девять экземпляров ученого труда, тысячный экземпляр коего я имею честь вручить тебе безвозмездно. Сто экземпляров ты, сеньор, можешь продать ради собственного барыша за триста пистолей, а об остальных благоволишь дать мне отчет. Я льщу себя надеждой, что на протяжении нескольких недель все книги будут раскуплены и что я смогу, следственно, предпринять второе издание, к коему непременно прибавлю некоторые соображения, каковые пришли мне в голову уже во время печатания.
Морено, казалось, усомнился, что книга будет так быстро распродана, но, увидав, что саламанские цензоры её разрешили, приютил все восемь тюков в своём обширном складе и, заодно, выставил в лавке несколько экземпляров на продажу. Эрвас же отправился в трактир, где снял комнату и тотчас же погрузился в ученые соображения, которые намеревался присовокупить ко второму изданию.
По прошествии трех недель наш геометр рассудил, что самое время отправиться к Морено, дабы получить причитающееся за проданные книги, полагая, что он принесет домой по меньшей мере тысячу пистолей. Он отправился к книгопродавцу и с неслыханным сокрушением узнал, что доселе не продано ещё ни одного экземпляра. Вскоре ещё более чувствительный удар настиг его, ибо, вернувшись в трактир, он нежданно-негаданно застал у себя в комнате придворного альгвазила, который без дальних разговоров велел ему сесть в наглухо запирающийся экипаж и незамедлительно доставил его прямо в Сеговийскую башню.[261]
Кажется странным, что с геометром обошлись как с государственным преступником, но причина этому была следующая: экземпляры, выставленные в лавке у Морено, попали вскоре в руки нескольких любопытствующих завсегдатаев оной лавки. Один из них, прочитав заглавие «Открытие тайны анализа», сказал, что это, по всей вероятности, какой-то противуправительственный пасквиль; другой, присмотревшись повнимательнее к заглавию, прибавил со злорадной усмешкой, что этот фолиант всенепременно есть не что иное, как сатира на дона Педро де Аланьес, министра финансов, потому что слово анализ — анаграмма фамилии Аланьес, а дальнейшая же часть заглавия «о бесконечностях в каждом измерении» явно относится к этому министру, который в материальном смысле был бесконечно малым и бесконечно тучным, нравственно же — бесконечно надменным и в то же время — бесконечно простодушным. По этой шутке легко сделать вывод, что завсегдатаям книжной лавки сеньора Морено можно было говорить все, что вздумается, и что правительство смотрело сквозь пальцы на вольные выходки этой маленькой хунты насмешников и краснобаев.