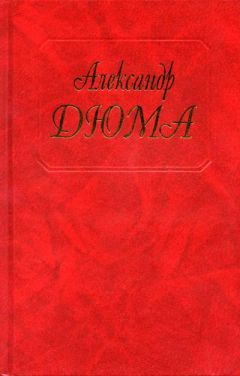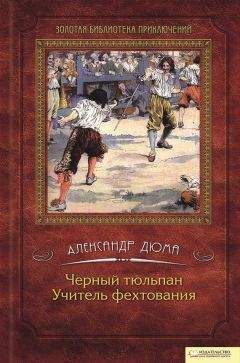— Да, месье.
— Уф, стало легче! Идем.
Коконнас последовал за приставом, который пошел вперед ковыляющей походкой, держа в руках черный жезл.
Хотя Коконнас в первую минуту и выразил удовольствие, он все же с беспокойством поглядывал вперед, назад и по сторонам.
«Эх! Что-то не видать моего почтенного тюремщика! — говорил себе Коконнас. — Признаться, очень неприятно, что его нет».
Все шествие проследовало в зал, откуда только что вышли судьи, кроме одного — оставшегося у стола. Коконнас сразу узнал в нем главного прокурора, который во время допроса неоднократно выступал, и всякий раз с явной неприязнью к подсудимым. Именно ему Екатерина поручала ведение процесса.
Отдернутая завеса давала возможность разглядеть всю комнату, дальняя часть которой терялась в сумраке, а освещенный передний план наводил такой страх, что у Коконнаса стали подгибаться ноги.
— О Господи! — воскликнул он.
Этот крик ужаса вырвался у него неспроста: картина была действительно зловещая. Зал, в большей своей части скрытый завесой на время заседания суда, теперь казался преддверием ада. На переднем плане стоял деревянный станок с веревками, блоками и прочими принадлежностями пытки. Дальше пылал огонь в жаровне, падая красными отсветами на окружавшие предметы и придавая еще более мрачный вид силуэтам людей, стоявших в пространстве между Коконнасом и жаровней. Около одного из каменных столбов, поддерживавших своды, недвижно, точно статуя, стоял какой-то человек, держа в руке веревку и прислонясь к столбу; казалось, он был высечен вместе со столбом из одного камня. По стенам, над каменными скамейками, промеж железных колец висели цепи и сверкали сталью орудия пытки.
— Ого! Зал пыток в полной готовности и как будто только ждет своей жертвы! — шептал Коконнас. — Что это значит?
— Марк-Аннибал Коконнас, на колени! — произнес чей-то голос, заставивший Коконнаса поднять голову. — Выслушайте на коленях вынесенный вам приговор.
Инстинктивно все существо Коконнаса всегда противилось такого рода предложениям. Он и теперь готов был воспротивиться, но два человека налегли на его плечи так неожиданно, а главное, так крепко, что он сразу упал обоими коленями на каменный настил.
Голос продолжал:
— «Приговор суда, вынесенный в Венсенской крепости по делу Марка-Аннибала де Коконнаса, обвиненного и уличенного в преступлении против его величества, а именно: в покушении на отравление, в ворожбе и колдовстве, направленных против особы короля, в заговоре против государственной безопасности, а также в том, что своими гибельными советами он подстрекал принца крови к мятежу…»
В такт этим обвинениям Коконнас отрицательно мотал головой, как упрямый школьник.
Судья продолжал:
— «Принимая во внимание все вышеизложенное, суд постановил: препроводить означенного Марка-Аннибала де Коконнаса из тюрьмы на Гревскую площадь и там обезглавить, имущество его конфисковать, его строевые леса срубить до высоты шести футов, замки его разрушить и поставить в чистом поле столб с медной доской, на коей будут указаны его вина и наказание…»
— Что касается моей головы, — сказал Коконнас, — то, думается, ее действительно отрубят, потому что она — во Франции и даже слишком далеко зашла. Что же касается моих строевых лесов и замков, то ручаюсь, что ни пилам, ни киркам христианнейшего королевства там делать будет нечего!
— Молчать! — приказал судья и продолжал чтение: — «Сверх того, означенный Коконнас…»
— Как? — прервал его Коконнас. — И, отрубив мне голову, будут со мной еще что-то делать? О, это уж чересчур сурово.
— Нет, месье, — ответил председатель, — не после, а до… — И продолжал: — «Сверх того, означенный Коконнас до исполнения приговора имеет быть подвергнут чрезвычайной пытке в десять клиньев».
Коконнас вскочил на ноги, сверкая глазами.
— Зачем?! — воскликнул он, не найдя, кроме этого наивного вопроса, других слов, чтобы выразить целый сонм мыслей, вдруг замелькавших в его мозгу.
Действительно, пытка являлась для Коконнаса полным крушением его надежд: его отправят в часовню только после пытки, а от нее часто умирали, и умирали тем вернее, чем сильнее и мужественнее был человек, смотревший на вынужденное признание как на малодушие; а раз человек не делал признаний, то пытку не только продолжали, но пытали более жестоко.
Председатель суда не удостоил Коконнаса ответом, так как окончание приговора давало ответ вместо него, и продолжал читать:
— «Дабы заставить его раскрыть весь заговор, всех сообщников и все их козни во всех подробностях…»
— Дьявольщина! — воскликнул Коконнас. — Ведь это же бессовестно! Даже не бессовестно, а подло!
Привыкший к выражениям ярости несчастных жертв — ярости, которую затем мучения превращают в слезы, — председатель безучастно взмахнул рукой.
Коконнаса схватили за плечи и за ноги, свалили с ног, понесли, уложили на станок, прикрутили к нему веревками — и все это произвели так быстро, что он не успел даже разглядеть тех, кто совершал над ним насилие.
— Негодяи! — рычал Коконнас, так сотрясая в припадке ярости станок и его подножки, что от него отшатнулись сами палачи. — Негодяи! Пытайте, терзайте, режьте меня на куски, но, клянусь, ничего вам не узнать! Вы воображаете, что вашими железками и деревяшками можно заставить говорить такого родовитого дворянина, как я? Валяйте, валяйте, я презираю вас!
— Господин секретарь, приготовьтесь записывать, — сказал председатель.
— Да-да, приготовляйся! — рычал Коконнас. — Будет тебе работа, если станешь записывать все, что я скажу вам, мерзавцы, палачи! Пиши, пиши!
— Вам угодно сделать признания? — спросил так же спокойно председатель.
— Ни одного слова, ничего; к черту!
— Вы лучше поразмыслите, граф, покамест будут делаться приготовления. Мэтр, приладьте господину сапожки.
При этих словах человек, до этих пор стоявший неподвижно с веревкою в руке, отделился от столба и медленным шагом подошел к Коконнасу, который, повернувшись в его сторону лицом, собирался скорчить рожу.
Это был мэтр Кабош, палач парижского судебного округа. Горькое изумление отразилось на лице Коконнаса, и, вместо того чтобы кричать и биться, он замер, будучи не в силах отвести глаз от лица этого забытого им друга, появившегося в такую страшную минуту.
Ни один мускул не дрогнул в лице Кабоша; ничем не показав, что он когда-либо встречал пьемонтца, и как будто увидев его впервые, Кабош задвинул ему две доски меж голеней, а две такие же доски приложил к их внешней части, затем обвязал все, голени и доски, веревкой, которую держал в руке. Это приспособление и называлось «испанские сапоги».