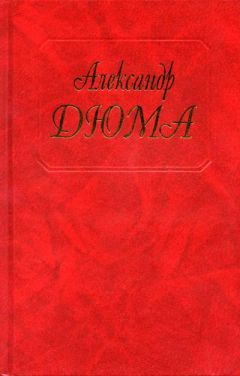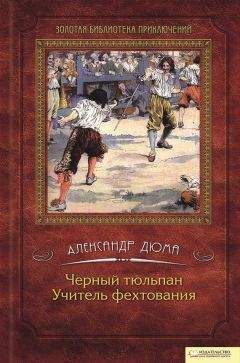— Ой, ой! — простонал Коконнас, увидав двух помощников палача, подходивших к нему с носилками.
— Ну-ну, мужайтесь, — сказал Кабош, — если вы стонете уже от этого, что же будет с вами сейчас?
— Дорогой Кабош, — взмолился Коконнас, — не давайте меня трогать вашим почтенным спутникам, будьте так добры… может быть, у них не такая легкая рука, как у вас.
— Поставьте носилки рядом со станком, — приказал Кабош.
Его помощники выполнили приказание. Мэтр Кабош поднял Коконнаса, как ребенка, и переложил на носилки; но, несмотря на всю его осторожность, Коконнас орал благим матом. В эту минуту появился и добросовестный тюремщик с фонарем в руке.
— В часовню, — сказал он.
Носильщики понесли Коконнаса, в другой раз пожавшего мэтру Кабошу руку.
Первое пожатие оказалось настолько благотворным для пьемонтца, что от его предубеждений не осталось и следа.
Мрачное шествие в гробовом молчании проследовало по двум подъемным мостам крепости и направилось через широкий двор самого замка к часовне, где на цветных окнах-витражах просвечивали мягким светом бледные лики и красные хитоны апостолов.
Коконнас жадно вдыхал ночной воздух, насыщенный дождевой влагой. Вглядываясь в густую мглу, он радовался тому, что все благоприятствует побегу. В самой часовне ему понадобилась вся сила его воли, все благоразумие, все самообладание, чтобы не спрыгнуть с носилок, когда он увидал у клироса, в трех шагах от алтаря, лежавшее на полу тело, прикрытое белым покрывалом. Это был Ла Моль.
Два солдата, сопровождавших носилки, остались за дверьми часовни.
— Раз уж нам оказывают последнюю милость и вновь соединяют нас, — сказал Коконнас, придавая жалобный тон голосу, — то отнесите меня поближе к моему другу.
Так как носильщики не получали на этот счет запрета, они без возражений исполнили просьбу Коконнаса.
Ла Моль лежал мрачный и бледный, прислонясь головой к мраморной стене; лицо его блестело от обильного пота, а мокрые волосы имели такой вид, будто они дыбом встали у него на голове да так и остались торчать.
Тюремщик знаком приказал двум носильщикам сходить за священником — это было условным сигналом бегства.
Коконнас с мучительным нетерпением следил глазами за уходившими носильщиками, да и не он один: едва носильщики скрылись из виду, как две женщины с радостным смехом выбежали из-за алтаря и бросились на клирос, всколыхнув воздух, как теплый шумный порыв ветра перед грозой.
Маргарита кинулась к Ла Молю и обняла его. Ла Моль ответил тем диким воплем, какой долетел тогда в камеру пьемонтца и чуть не свел его с ума.
— Боже мой! Что такое?! — воскликнула Маргарита, в ужасе отстраняясь от Ла Моля.
Ла Моль только застонал и закрыл глаза руками, как будто не желая ее видеть. Его молчание и этот жест перепугали Маргариту больше, чем его крик.
— Боже, что с тобой? — воскликнула она. — Ты весь в крови!
Коконнас, уже успевший подбежать к престолу, схватить кинжал и обнять за талию Анриетту, обернулся на ее слова.
— Вставай, вставай же, — говорила Маргарита, — разве ты не видишь? Пора бежать!
Горькая улыбка скользнула по бледным губам Ла Моля, хотя ему как будто и не пристало улыбаться.
— Дорогая королева! — сказал молодой человек. — Вы не учли, на что способна Екатерина. Меня пытали, у меня раздроблены все кости, мое тело — сплошная рана, а мои старания поцеловать вас причиняют мне такую боль, что легче смерть.
Действительно, приложив губы ко лбу королевы, Ла Моль весь побелел от этого усилия.
— Пытали?! — воскликнул Коконнас. — Так меня тоже пытали; но разве палач обошелся с тобой не так же, как со мной?
И Коконнас рассказал, как было дело.
— Ах! Все понятно! — сказал Ла Моль. — Когда мы были у него, ты пожал ему руку; а я забыл, что все люди — братья, во мне заговорила спесь. Бог наказал меня за мою гордыню — благодарю за это Бога!
И Ла Моль молитвенно сложил руки. Коконнас и обе дамы в неизъяснимом ужасе переглянулись.
— Скорей, скорей! — сказал тюремщик, вернувшись от входной двери, где он стоял на страже. — Не теряйте времени: ударьте меня кинжалом — только по чести, как дворянин! Скорей, а то они сейчас придут!
Маргарита стояла на коленях перед Ла Молем, подобно мраморной надгробной статуе, склоненной над тем, кто покоится в гробнице.
— Друг, не унывай, — сказал Коконнас. — Я сильный, я унесу тебя, посажу на лошадь, а если не сможешь сам держаться в седле, я посажу тебя перед собой и буду держать; но едем, едем! Ты слышал, что сказал нам честный тюремщик? Это вопрос жизни!
— Правда, от этого зависит твоя жизнь, — сказал Ла Моль.
Он сделал сверхчеловеческое, невероятное усилие и попытался встать. Аннибал взял его под мышки и поставил на ноги. Но пока он это делал, из уст Ла Моля все время слышалось какое-то глухое завывание; а как только Коконнас на мгновение отстранился от Ла Моля, чтобы подойти к тюремщику, и оставил мученика на руках двух женщин, ноги Ла Моля подогнулись, и, несмотря на все усилия Маргариты и Анриетты, он рухнул на пол с душераздирающим криком, который разнесся по часовне зловещим эхом и несколько секунд гудел в ее высоких сводах.
— Видите, — скорбно произнес Ла Моль, — видите, королева? Бросьте же меня, оставьте здесь, сказав последнее «прости». Маргарита, я не произнес ни слова, ваша тайна осталась нераскрытой и умрет вместе со мной. Прощайте, моя королева, прощайте!..
Маргарита, сама чуть живая, обвила руками дорогую ей голову и поцеловала ее непорочным поцелуем, почти святым.
— Аннибал, — сказал Ла Моль, — ты избежал мучений, ты еще молод, ты можешь жить; беги, беги, мой друг! Я хочу знать, что ты на свободе, дай мне это последнее утешение.
— Время идет, — крикнул тюремщик. — Скорее, торопитесь!
Маргарита с распущенными волосами стояла на коленях около Ла Моля и заливалась горючими слезами, похожая на кающуюся Магдалину, а Анриетта старалась увести пьемонтца.
— Беги, Аннибал, — повторил Ла Моль, — не давай нашим врагам повода позлорадствовать при виде того, как два невинных дворянина будут умирать позорной смертью.
Коконнас нежно отстранил Анриетту, тянувшую его к двери, и, сделав в сторону тюремщика торжественный и в данных обстоятельствах величественный жест, сказал:
— Мадам, прежде всего отдайте этому человеку пятьсот экю, которые ему обещаны.
— Вот они, — ответила Анриетта.
Затем, грустно покачав головой, он обратился к Ла Молю:
— Милый мой Ла Моль, ты оскорбил меня, если подумал хоть на минуту, что я способен тебя бросить. Разве я не поклялся и жить и умереть с тобой? Но ты так мучаешься, мой бедный друг, что я тебе прощаю.