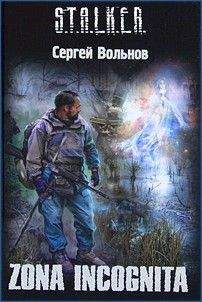Восемьдесят первый был посвящен каббале и разным способам гадания, как-то: рабдомантии, или предсказанию будущего с помощью бросаемых наземь палочек или жезлов, то есть жезлогаданию, а также хиромантии, геомантии,[271] гидромантии[272] и тому подобным заблуждениям.
От всей этой малопочтенной ахинеи Эрвас внезапно переходил к самым непререкаемым истинам: том восемьдесят второй заключал в себе геометрию, восемьдесят третий — арифметику, восемьдесят четвертый — алгебру, восемьдесят пятый — тригонометрию, восемьдесят шестой — стереотомию, или науку о геометрических телах в применении к шлифованию камней, восемьдесят седьмой — географию, восемьдесят восьмой — астрономию вместе с псевдоученым её детищем, известным под названием астрологии.
В восемьдесят девятом томе он поместил механику, в девяностом — динамику, или науку о действующих силах, в девяносто первом — статику, то есть учение о силах, пребывающих в равновесии, в девяносто втором — гидравлику, в девяносто третьем — гидростатику, в девяносто четвертом — гидродинамику, в девяносто пятом — оптику и науку о перспективе, в девяносто шестом — диоптрику, в девяносто седьмом — катоптирику,[273] в девяносто восьмом — аналитическую геометрию, в девяносто девятом — элементарные понятия о дифференциальном исчислении, и, наконец, сотый том заключал в себе анализ бесконечностей, который, согласно Эрвасу, был искусством искусств и последним пределом, которого мог достичь разум человеческий.[274]
Глубочайшее знакомство с сотней различных наук могло бы иному показаться превосходящим умственные силы одного человека. Не подлежит, однако, сомнению, что Эрвас о каждой из этих наук написал один том, который начинался с истории данной науки, а завершался замечаниями, преисполненными истинной проницательности, о способах обогащения и — если так можно выразиться — расширения во всех направлениях пределов человеческих познаний.
Эрвас сумел совершить все это благодаря свойственному ему умению беречь время и особенно благодаря величайшему порядку в распределении оного времени. Он вставал всегда вместе с солнцем и готовился к служебным занятиям в канцелярии, обдумывая дела, которые ему предстояло разрешить. Затем он заходил к министру за полчаса до прихода всех прочих и с пером в руке ждал, когда пробьет назначенный час, — ждал с пером в руке и с головой, свободной от каких бы то ни было мыслей, касающихся его грандиозного творения. Как только раздавался бой часов, Эрвас начинал свои расчеты и завершал их с неимоверной быстротой.
Затем он направлялся к книгопродавцу Морено, доверие коего сумел себе завоевать, брал книги, которые ему были нужны, и возвращался домой. Вскоре он выходил из дому, чтобы чем-нибудь подкрепить свои силы, возвращался к себе в первом часу дня и трудился до восьми часов вечера. После трудов праведных он играл в пелоту с соседскими мальчишками, выпивал чашку шоколада и шёл спать. Воскресенье он проводил на свежем воздухе, обдумывая труды, предстоящие ему на следующей неделе.
Таким образом Эрвас мог посвятить примерно три тысячи часов в год исполнению и завершению своего универсального труда, что за полтора десятилетия составило в сумме сорок пять тысяч часов. В самом деле, необыкновенный этот труд был закончен втихомолку, так что решительно никто в Мадриде не подозревал о его существовании, ибо нелюдимый Эрвас ни с кем не вдавался в долгие разговоры, никому не говорил о своём труде, желая внезапно удивить мир, развернув перед изумленными очами последнего бесконечное множество своих поразительных познаний. Он завершил труд одновременно с завершением тридцать девятого года своего земного существования и необыкновенно радовался тому, что начнет сороковой год, находясь на пороге заслуженной и безмерной славы.
Тем не менее некая печаль сжимала его сердце. Привычка к непрестанному труду, поддерживаемая всесильным упованием, была для него, необщительного и одинокого, как бы милым обществом, заполняющим без остатка все дни его жизни.
Теперь же он утратил это воображаемое общество, и скука, которой он дотоле никогда не испытывал, начала ему досаждать. Состояние это, совершенно новое для Эрваса, выбило его из привычной ему колеи, вырвало из привычного русла той умозрительной жизни, которую он вел доселе.
Он перестал искать одиночества, и с тех пор его часто видели во всех общественных местах. Казалось, будто ему до смерти хочется заговорить со всеми, но, не будучи ни с кем знаком и не имея привычки к ведению беседы, бедняга Эрвас пятился назад, не сказав ни слова. Впрочем, он утешался мыслью, что скоро Мадрид узнает его, будет искать его и говорить только о нём одном.
Снедаемый жаждой развлечений, Эрвас решил навестить свои родные края, то самое безвестное местечко, которое он так надеялся прославить.
Вот уже пятнадцать лет единственной забавой, которую он себе позволял, была игра в пелоту с соседскими мальчуганами; теперь его радовала мысль, что он сможет предаться этому развлечению в местах, где он провел свои ранние детские годы.
Перед отъездом, однако, он захотел ещё разок налюбоваться видом своих ста томов, расположенных в образцовом порядке на одном большом столе. Рукопись была такого же формата, в каком труд должен был выйти из печати, и Эрвас доверил её переплетчику, веля ему оттиснуть на корешке каждого тома название соответствующей науки и порядковый номер, начиная с первого на всеобщей грамматике и кончая сотым на анализе бесконечностей. Спустя три недели переплетчик принес книги, стол же был уже приготовлен. Эрвас уставил на нём великолепную шеренгу томов, оставшимися же черновиками и копиями с превеликой радостью растопил печь. Засим он запер двери на двойные засовы, наложил на них свою сургучную печать и отбыл в Астурию.
И в самом деле, зрелище родимых краев наполнило душу Эрваса невыразимым наслаждением; тысячи воспоминаний, равно сладостных и невинных, вызывали у него слезы радости, источник коих, как казалось, должны были осушить до дна двадцать лет сухого и изнурительного книгочийства. Наш плодовитый автор охотно провел бы остаток дней своих в родном местечке, но стотомный труд призывал его обратно в Мадрид. И вот он отправляется в столицу, прибывает к себе домой, находит в полной неприкосновенности сургучную печать на дверях, отворяет их… и видит сто своих томов растерзанными в клочья, вырванными из переплетов, со страницами, перемешанными и разбросанными по полу в неимовернейшем беспорядке. Ужасное это зрелище мгновенно помрачило его рассудок; он рухнул на пол среди обрывков своего титанического труда; рухнул наземь и тут же лишился чувств.