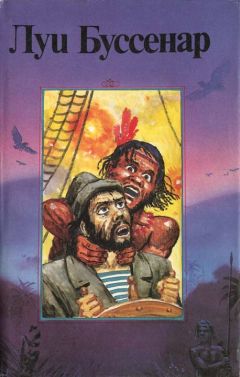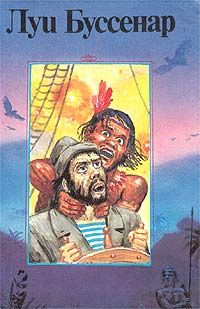Фрике, подружившийся с погонщиком слона, устроился вместе с ним на массивной шее животного — прекрасный наблюдательный пункт.
Озанор восхищал гамена не меньше, чем его единоплеменник в спектакле театра «Порт-Сен-Мартен» при свете газовых рожков рампы.
Тогда Фрике смотрел представление из второго яруса, и слон ему понравился.
Озанор радостно вздыхал: «Пуф-фф», и «пуф-ф», «пу-уф», совсем как паровоз, маневрирующий на вокзальных путях, забавлялся, смешно закидывая хобот вверх.
Самый жалкий вид был у Ра-Ма-То.
Бедняга находился в плачевном состоянии. Новые сотоварищи-рабы, осыпавшие его ругательствами и плевками, разорвали щегольское одеяние на множество кусочков, которые использовали как украшения. Но жестокий удар был нанесен царьку еще до выхода отряда в путь. Он увидел, как приближенные занялись дележом его имущества. Ведь превращение в раба равнялось гражданской смерти.
Министры бывшего вождя напялили высокие шапки! А его брат, тот самый, кого он собирался вместо себя отдать в рабство, бесстыдно занял освободившийся трон.
Ра-Ма-То наблюдал, как тот с важным видом держал в руках жезл яблоневого дерева — символ верховной власти, облачившись в мундир кавалергарда[104] с эполетами[105] и водрузив на голову каску пожарника, ослепительно сверкавшую под лучами солнца!
В довершение унижения жены низложенного монарха поторопились выказать абсолютнейшую преданность новому правителю. Палочные удары сыпались в изобилии направо и налево, и это окончательно узаконило захват власти.
Новый властитель соблюдал традиции.
Участь Ра-Ма-То была до того жалкой, что расстроенные европейцы принялись просить у Ибрагима снисхождения к нему. Но Ибрагим оставался глух к мольбам. Белые друзья достойны многих его милостей, но об этом они с ним не договаривались. Он строго выполняет обязательства по отношению ко всем трем, так отчего же их заботит этот негодяй, пропойца, обманщик, предатель и зверь? Деловые интересы не могут определяться чувствами.
Однако, наблюдая, как дурно обращаются бывшие подданные с монархом, и понимая, что несчастный не сможет вообще дойти до побережья, торговец на третий день смягчился.
В конце недели Бикондо дошел до предела. Его организм, изъеденный алкоголем, находился в состоянии полнейшего истощения; и тогда Ибрагим объявил бывшему величеству, что со следующего дня тот свободен и может вернуться обратно.
Караван устроил лагерь на большой поляне, в пятистах или шестистах метрах от маленькой деревушки, жители которой, завидев столько вооруженных людей, тотчас ее покинули.
Припасов хватало, и паника эта не сыграла никакой роли, беглецов не разыскивали. Ибрагим командовал своими людьми по-военному и категорически запрещал по дороге какой бы то ни было грабеж, поскольку иначе возникли бы серьезнейшие осложнения.
Спали все, кроме часовых. Вдруг из темноты раздался жуткий вопль, а затем вой сотни глоток.
Все кинулись туда. Едва освещаемая то вспыхивавшими, то гаснувшими огоньками затухающего костра предстала ужасная картина.
В реке крови подергивался рассеченный труп Ра-Ма-То с вывалившимися внутренностями, перерезанным горлом, выпученными глазами, перебитыми руками и ногами.
Несчастные, подвергавшиеся дурному обращению во времена его величия, решили свершить страшную месть: узнав о возвращенной монарху свободе, они дождались ночи, набросились на него, как хищные звери, и в одно мгновение растерзали…
— От судьбы не уйдешь, — философски заметил Ибрагим.
Караван на следующее утро отправился в путь, оставив за собой непогребенные изуродованные останки человека, деспотически правившего более чем десятью тысячами обитателей речных берегов в Верхнем Огове!
Кстати, неподалеку сновали красные муравьи невероятных размеров и неслыханной прожорливости, способные за одну ночь оставить от крупного животного одни лишь кости.
— Безумный Бикондо, — ни к кому не обращаясь, произнес Фрике, — голова у него годилась лишь для того, чтобы носить шляпу, и пил он не в меру.
Это была единственная похоронная речь.
Страшная смерть огорчила наших друзей; вид человеческой крови сам по себе пугает, а любое насилие противоречит природе.
Невольники сушили обагренные кровью руки. Фрике с отвращением наблюдал за тем, как кое-кто обсасывал собственные пальцы, испытывая при этом наслаждение. Европейцы не сомневались, что дикари съели бы труп, если бы им это позволили.
Великодушный Андре с плохо скрываемым раздражением осудил каннибализм и, как обычно, отстаивал принципы цивилизации.
Доктор, полный скепсиса[106], как и все, кто долгое время жил в колониях, пропагандировал с завидным усердием тезис знаменитого антрополога[107] Жоржа Поше, гласивший: негры принадлежат к отдельной от белых расе[108], может, менее развитой, но совершенно иной!
Фрике, чувствительный, как все парижане, обрадовался свободе, позволявшей посмотреть мир, о чем страстно мечтал, но он все время жалел стонущих в тяжких колодках рабов, многие из которых не прочь были бы отобедать и юным французом, и его друзьями.
Ибрагим же искренне полагал, что негры существуют лишь для работы на плантациях другого континента, чернокожие — всего лишь вьючные животные о двух ногах. Он безоговорочно верил: никому на свете за редким исключением не придет в голову называть эти существа людьми.
Кто становился рабом, был для торговца хуже слона. Эту теорию он высказывал, время от времени умолкая, чтобы затянуться пахучей смесью, набитой в длинную трубку из жасминовой ветки.
Хотя беседа и прерывалась для перевода на французский, от этого не становилась менее оживленной.
— Ты сердишься на меня за торговлю неграми, — обратился абиссинец к Андре. — Но ведь это разрешено Пророком. Я не требую от них многого, — добавил он. — Да и где они найдут более великодушного хозяина… Я их кормлю и никогда не бью. Женщины свободны, дети тоже. Ибрагим — хозяин добрый.
— Черт побери, — заметил доктор, — у меня нет в этом сомнений! Есть места, где с неграми обращаются хорошо — Бразилия, Египет, Гавана, — но когда ты говоришь, что не требуешь от них многого, то позволь усомниться в твоих словах. «Я не требую многого». Послушай-ка, Андре, забавно, но наш друг ни секунды не сомневается в праведности содеянного.
— Действительно забавно. И, между прочим, прав, когда утверждает, что закон Магомета разрешает торговлю рабами.
— Ну, тут он стоит на твердой почве, поскольку здесь полное совпадение с нормой христианской морали.