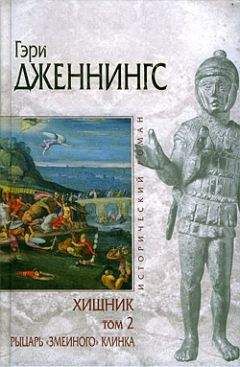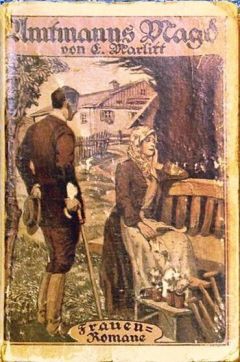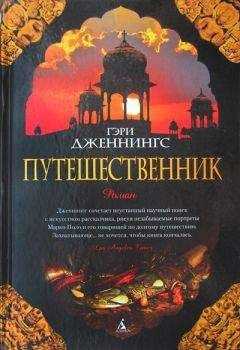В то же самое время римская церковь, после тридцати лет безуспешных попыток причинить хоть сколько-нибудь значительный вред Теодориху, ни на йоту не уменьшила свою к нему неприязнь, которую священники даже не пытались скрывать. Почти все проживавшие в королевстве католики, от Папы Римского Иоанна до отшельников в пещерах, радовались перспективе увидеть, как трон узурпирует кто угодно, лишь бы он не принадлежал к арианам. Я говорю «почти», потому что остались, разумеется, мужчины и женщины в самых разных слоях общества, которые, несмотря на свои обеты поддерживать взгляды церкви и строжайший запрет иметь свое мнение, были все-таки достаточно благоразумны, чтобы понимать, какие печальные последствия повлечет за собой уничтожение готского королевства.
Сенаторы Рима тоже понимали это. Хотя большинство из них исповедовали католичество, а следовательно, должны были питать ненависть к арианам и хотя почти все они были урожденными римлянами, а стало быть, предпочли бы, чтобы ими снова правил римлянин, здравый смысл все-таки одержал верх. Они признавали, что Рим, Италия и все те земли, что раньше носили название Западной Римской империи, во время правления Теодориха получили передышку и отодвинулись от края пропасти, а затем обрели безопасность, мир и процветание, которых не знали в течение четырех столетий. А еще сенаторы осознавали опасность, исходившую от окружавших их вандалов и франков — и даже от народов поменьше, которые когда-то были покорными подданными, верными союзниками или же теми, с кем не особенно считались, подобно гепидам, ругиям и лангобардам. Все они мигом покажут зубы, если только окажется, что правителем готского королевства стал человек не столь великий, как Теодорих. Сенаторы рассуждали просто: пусть уж «лучше варвары, которых мы знаем, чем другие». Подобно нам, придворным Теодориха, они горячо спорили и вовсю обсуждали достоинства того или иного кандидата на престол, не считая это недостатком, если кандидат был готом или принадлежал к арианской церкви. Но, подобно нам, сенаторы тоже так и не смогли отыскать ни одного подходящего человека.
Но самое поразительное, что, в то время как сенаторы с вполне оправданным подозрением относились к чужеземцам, нам нанесло тяжкий удар государство, которое они никак уж не относили к варварам, — давний соперник Рима и вечный претендент на пальму первенства, Восточная Римская империя. Да уж, воистину мрачные и печальные события произошли в тот памятный год дневной звезды.
Все началось с того, что один из сенаторов по имени Циприан обвинил другого, которого звали Альбин, в том, что он якобы вступил в предательскую переписку с Константинополем. Очень может быть, что это было всего-навсего банальной клеветой. Не было ничего нового в том, что один сенатор приписывал другому самые отвратительные и безнравственные поступки. Это была общепринятая практика политических игр. Хотя, с другой стороны, вполне могло оказаться, что сенатор Альбин действительно был тайно связан с врагами государства в Константинополе. Едва ли теперь это имеет значение.
Ужасно оказалось другое: обвиняемый Альбин был близким другом magister officiorum Боэция. Может, предпочти Боэций не ввязываться во всю эту шумиху, ничего бы страшного и не произошло. Но он был весьма совестливым человеком и не смог стоять в стороне, когда бесчестили его друга, которому, помимо всего прочего, угрожала смертная казнь. Поэтому когда Сенат решил учинить Альбину официальный допрос, Боэций выступил перед судьями в качестве его защитника, заключив свою речь такими словами:
— Если Альбин виновен, тогда виновен и я.
* * *
— Мне тоже пришлось в юности изучать риторику, — рассказывал я Ливии, горестно качая головой. — Такое заключение своей речи Боэций взял из классических текстов. Да любой школяр поймет, что это всего лишь прием. Elenctic[179] довод, касающийся вопроса разумной вероятности. Но сенаторы…
— Надеюсь, они разумные люди. — Ливия произнесла это скорее как вопрос, нежели как утверждение.
Я вздохнул:
— Решение судей может основываться как на представленных фактах, так и на свидетельских показаниях. На заседании в качестве улики были представлены письма. Уж не знаю, настоящие они или поддельные. В любом случае их посчитали доказательством, и судьи сочли Альбина виновным. Ну а поскольку Боэций сказал, что в таком случае и он тоже виновен, они поймали его на слове.
— Но это же нелепо! Обвинить королевского magister officiorum в предательстве?
— Боэций сам это засвидетельствовал. Чисто риторически, да, но все-таки засвидетельствовал. — Я снова вздохнул. — Давай не будем слишком строги к самим судьям. Они хорошо знают изменчивый нрав Теодориха — его склонность сомневаться и подозревать всех вокруг себя. Возможно, они просто заразились от короля такой же подозрительностью. И если очевидность заставляет их признать вину Альбина…
— Но Боэций! Как можно? Только вспомни! Рим чествовал его как своего consul ordinarius, когда ему было всего тридцать! Он был одним из самых молодых консулов…
— А теперь, когда ему сорок, Боэция на основании собственного признания обвиняют в измене Риму.
— Невероятно. Нелепо.
— И тем не менее суд вынес соответствующий вердикт.
— А какое ему определили наказание?
— За такое преступление, Ливия, существует только одно наказание.
Она в ужасе выдохнула:
— Смерть?..
— Приговор должен быть еще подтвержден Сенатом, а затем одобрен королем. От всей души надеюсь, что вердикт отменят. Тесть Боэция, старый Симмах, все еще princeps Senatus. Он, конечно же, повлияет на результаты голосования в Сенате. Кстати, пока что в Равенне на освободившийся пост magister officiorum вместо Боэция назначен Кассиодор Филиус. Они всегда были друзьями, поэтому Кассиодор при случае защитит Боэция перед Теодорихом. Если кто и умеет пользоваться словами для своей выгоды, так это Кассиодор-младший.
— Ты тоже должен отправиться туда и вступиться за Боэция.
— Я в любом случае отправляюсь на север, — произнес я мрачно. — Я маршал короля, моя обязанность присутствовать там. Я сопровождаю несчастного Боэция под усиленной охраной в Тицин, в тюрьму Кальвенциан. По крайней мере, ему не придется гнить здесь, в Тулиане. Я сумел договориться, чтобы в ожидании освобождения его содержали не в такой страшной темнице.
Ливия одарила меня двусмысленной улыбкой и пробормотала:
— Ты всегда был очень добр по отношению к своим пленникам.
* * *
Целых двенадцать месяцев томился Боэций в тюрьме Кальвенциан. Пока все разумные люди за ее стенами хлопотали о его спасении, сам узник писал книгу под названием «Утешение философское» — именно это сочинение, я уверен, и положило конец всем прошениям о помиловании. Я хорошо помню один из пассажей из этой книги: