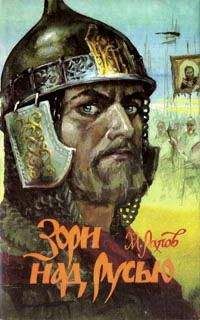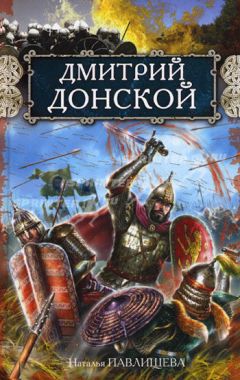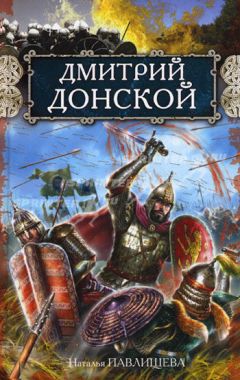Далеко позади остались княжьи люди; Дмитрий и не заметил, что конь его давно пошел шагом, да и ничего не замечал. В голове клином засела одна злая, кичливая мысль: «Чтоб я да Митяйке московскому поддался, великое княжение уступил? Тому не бывать!»
Конь встал как вкопанный, Дмитрий поднял голову. Старик татарин, одетый в рваный пурпурный халат, держал коня под уздцы.
— Куда едешь?
Князь замахнулся плетью, но ударить не посмел, крикнул только:
— Ты кто такой, чтоб с князей ответ спрашивать?!
Старик не моргнул даже.
— Знать хочу, куда едешь.
— Вот привязался! В Орду еду к царю Наврузу, отпусти уздцы, пока цел!
— Ярлык добывать? — сощурился. — Смотри, князь, побереги казну: скоро дары иному хану подносить будешь.
Бросил уздечку, не оглядываясь, пошел прочь.
— Что за притча такая? Единым словом оплел, как паутиной, старый леший. Что он мне сказал? Иному хану. Какому же иному, коли Навруз только что царем стал?
Князь Дмитрий смотрел, как в чаще кустов мелькает халат старика, спускающегося по скату оврага, потом оглянулся: «Надо подождать Андрея, посоветоваться. Тут дело нечисто!»
До столицы оставался день пути, когда татары увидели в степи богатое кочевье: табуны лошадей, юрты, в прозрачном воздухе синеватые струйки, поднимающиеся от костров.
Тагай жадно нюхал воздух: запахи лошадиного пота, овечьей шерсти, дыма и степных трав перемешались, неодолимо влекли его к себе.
В середине кочевья стояла богатая юрта с красным верхом. К ней и направил свой отряд сотник. Встреченный конной стражей, Тагай подъехал к юрте, на правах гостя вошел первым.
— Селям! — слова приветствия завязли в горле, — Челибей? Ты жив? Я думал, что ты давно в раю вкушаешь ласки гурий; еще зимой в Москве нас известили, что ты бежал из Орды, что тебя повсюду ищет Кульна–хан, да забудется его имя.
Казалось, Челибей не заметил гостя. Сжавшись в комок, охватив руками колени, сидел он, глубоко задумавшись. Чуть видные морщинки, обозначившиеся под редкими усами, были незнакомы Тагаю. Наконец, оторвавшись от своих дум, Челибей взглянул на сотника, сказал с горечью:
— То правда, как за зверем, охотился за мной Кульна.
И вдруг вскочил, рассмеялся:
— Кто видел, чтоб ишак за коршуном угнался? Кульна мертв, а я большим тарханом [76] стал. Науруз–хан мне под начало тысячную орду отдал, с табунами, с юртами, с воинами, с женщинами, с детьми.
Повезло Тагаю — встретил старого друга, все узнал, что в Сарай–Берке творится, кто в силе теперь, кто без головы остался, и, лишь когда спросил он про самого Науруза, Челибей опять помрачнел, сказал громко:
— Велик и грозен доблестный господин наш Науруз–хан. — Приглушенно добавил: — Помолчи об этом, Тагай, лишние уши вокруг. — Тревожно взглянул на вход юрты, покосился на Тагая, опять оглянулся и не утерпел:
— Поедем в степь…
Суслик, столбиком стоявший на вершине кургана, метнулся прочь, заслышав топот копыт.
Здесь остановили лошадей. Степь лежала внизу весенняя, буровато–зеленая, кое–где блестели полые воды, в дальней балке белел последний снег.
Тагай после Москвы все не мог надышаться степью, раздувая ноздри, жадно внюхивался в сладковатые ароматы прошлогодних трав. Ветер шевелил лисий мех на его шапке.
Челибей без слов понимал сотника и не мешал ему: пусть его глядит в степь — знать, добрый татарин, коли так жадно, как крепкий кумыс, пьет он ветер степных просторов.
Наконец, тронув Тагая, заговорил:
— Спросил ты меня о Наурузе. Золотая кровь великого Чингис–хана течет в его жилах, но много ли крови этой — не знаю! Убить Кульну он сумел, сумеет ли свою голову на плечах уберечь — не знаю! Милостив он или жесток — не знаю! — И, злобно ощерясь, бросил: — Да он и сам того не знает!
Тагай удивленно взглянул на друга:
— Ты что невесел ныне? Придумал тоже — о Наурузе тревожиться, — и, вспомнив ночного гостя, добавил: — Мало ли ханов было, мало ли будет еще, а по мне — лишь бы кус больше достался.
Челибей круто повернулся к сотнику, и, увидев его лицо, Тагай поперхнулся, смолк, лишь забытая улыбка осталась на губах.
— Тебе бы только брюхо набить да жиру нагулять! У–у–у!.. Баран курдючный. И все вы бараны, вас бьют, режут, а вы… — Челибей судорожно теребил повод.
Тагай подъехал к нему вплотную, заглянул в лицо:
— Что с тобой: какое горе гложет твою душу? Я не узнаю тебя, степной коршун.
— Затупился клюв у коршуна. Не знаю, кого клевать, не себя ли? Вот посадил я Кульну на белый войлок ханский , [77] он мне за это крылья обломал. Теперь Науруз–хан. Лучше, что ли? Разве ханы это? Шакалы, трусы, хорьки!
Тагай оглянулся:
— Слава Аллаху, вокруг пусто.
— Хоть ты пойми, Тагай, от этой резни ханской слабеет сила татарская! Орда слабеет! Пойми! — И сразу смолк: ничего он не поймет, рожа у дружка глупая.
Взмахнул плеткой. Лошадь присела на задние ноги, всхрапнула и пошла с кургана крупной рысью. Тагай скакал сзади, поглядывая на затылок Челибея, посмеивался беззвучно: «Бердибек–хана резал, об Орде не думал, у Кульны в когтях побывал, иное запел. Эх, Челибей, лихим был баатуром, стал ишаком вислоухим». Посмотрел вокруг, улыбнулся: «Пока шумят ковыльи степи, мощь Золотой Орды не иссякнет, и страшиться нечего». Весело взглянул вперед. Вздрогнул. Осадил лошадь.
— Челибей, смотри! Кто это?
Около красноверхой юрты сидел старик в рваном пурпурном халате.
— Ты не знаешь? — казалось, искренне удивился Челибей. — Это же сам святой Хизр — человек, которому Аллах подарил бессмертие… — И добавил со зловещей усмешкой: — Радуйся, Тагай, встреча с ним сулит правоверному удачу.
Зорко вглядывался старик в подъезжавших. Все pa зглядел, весь разговор их понял. Когда всадники остановили лошадей, Хизр встал, сказал властно:
— Не слезай с лошади, сотник, место твое не здесь. Зови людей своих, скачи в Сарай–Берке. Служи Науруз–хану служи верно, чтоб он полюбил и поверил в тебя. Да не забудь, если счастье дорого тебе, молчи о наших встречах. Молчи и помни и жди меня.
Презрительно, с холодной усмешкой глядел Челибей на пожелтевшее от страха лицо Тагая.
Киличей [78] московский Василий Михайлович вернулся от Науруза с пустыми руками.
Целый день спорят бояре: ехать князю в Орду или нет. Из приоткрытой двери доносятся их голоса. У окна в сенях стоит Митя, прислушивается, что говорят в думной палате. Опять Вельяминов с Василием Михайловичем вздорят: