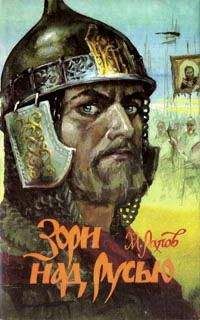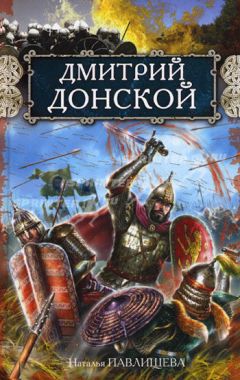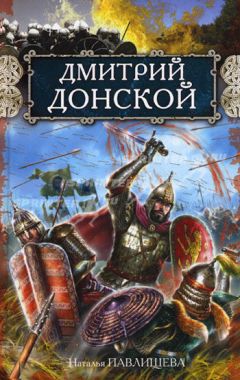Целый день спорят бояре: ехать князю в Орду или нет. Из приоткрытой двери доносятся их голоса. У окна в сенях стоит Митя, прислушивается, что говорят в думной палате. Опять Вельяминов с Василием Михайловичем вздорят:
— Роздал ты и казны и соболей немало, а ярлыка на великое княжение не добыл: не сумел, видать, прислужиться к царю Наурузу, — корит тысяцкий киличея. Тот обиженно отговаривается:
— Толковал я тебе, Василь Васильич, многажды толко вал, а ты все свое. Коли не захотел царь Навруз ярлыка мне в руки дать, моя ль в том вина? Так и сказал: «Пусть сам князь в Орду придет, будет ему ярлык».
— А ты поганому поверил? Нешто не знаешь — верить царям ордынским нельзя!
— Порой, Василь Васильич, и знаешь, да не взлаешь. Царь–то, он…
Вельяминов перебил:
— Немедля князю в Орду ехать надо, не то перекупят, как бог свят, перекупят у нас ярлык! Цари ордынские до казны жадны, это всем ведомо.
Бояре заговорили все враз:
— Правду речет Василь Васильич! Ехать князю!
— Почто Ваську–то Михайлова киличеем посылали? Только время провел!
— Ты бы небось поболе добился?
— Вестимо, поболе! Ваське что: сгибает — не парит, сломает — не тужит.
— Легко другого корить. Сам небось тоже наломал бы…
— Это я–то?
— Ты! Помнишь, как…
— Полно, бояре, лаяться. Думать надобно, чего ныне делать.
— Думать нечего, ехать надо!
— Что за беда, коли князь у нас отрок? А бояре на что? Да если на то пошло, все в Орду поедем!
— Нешто уступать кому стол великокняжеский? Не бывать тому!
— Ехать надо!
В гул боярских голосов ворвался звенящий крик княгини:
— Не пущу сына в Орду! Слышите, бояре, не пущу!..
— Ты что, Митя, не в думе?
Дмитрий оглянулся, увидел подошедшего Мишу Бренка, улыбнулся другу.
— Отпустил меня владыка — душно в палате.
— Так идем на двор, поиграем.
— Нет, не до потехи сейчас, я здесь постою, послушаю.
— Полно, пойдем… — Миша вдруг смолк. — А ведь это батюшка речь держит.
Старый Бренко говорил душевно:
— О княгине подумайте, бояре, совсем извелась, не осушая глаз, плачет. Но и ехать князю вроде бы надо, — замолчал в раздумье, — а может, и нет? Митю тоже поберечь не грех. От слова худого не сделается, чур нас, а случись с князем в Орде недоброе, что с Москвой будет? Подумать страшно! Обескняжим — погибнет дело, отцами и дедами начатое.
В палате опять зашумели бояре. Миша взглянул на князя.
— А тебе, Митя, охота в Орду поехать?
Дмитрий долго молчал, думал, потом улыбнулся, блеснул зубами:
— Коли надо — поеду! Поглядел бы, как татары живут…
— Да ведь страшно небось?
Дмитрий сразу перестал улыбаться, поднял глаза (Бренко был чуть повыше князя), пристально взглянул на сверстника:
— Вестимо, страшно, еще убьют там поганые, — и вдруг улыбнулся с задором: — Хочу помереть в битве, как князю пристойно. А ты?
Бренко расправил худенькие плечи:
— Не посрамлю земли Русской! [79] — запнулся. — Только бы вырасти поскорей.
— Ха!.. Ха!.. Ха!.. — подошедший сзади Иван Вельяминов, старший сын Василия Васильевича, с силой оттолкнул Бренка. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней, — повернулся к князю и через плечо на Бренка: — Святослав какой сыскался. Сопляк! Не слушай его, княже, поедем лучше на соколиный лов. [80] А здесь пошто стоять? Бояре и без тебя все удумают.
— Как это без меня удумают?
Князь старался поглядеть на Ивана строго, но такого взглядом не проймешь. Стоит высокий, статный. Лихо заломленной шапкой едва не касается матицы. [81] Поглядывая на князя с ухмылкой, сверху вниз, Вельяминов и не приметил, что князь нахмурился, заговорил опять свое:
— Будешь ты в думе аль нет — все едино. Слышишь, как мой батюшка посла донимает? Как батюшка скажет, так бояре и приговорят. Тысяцкому, чаю, виднее.
— Так… — протянул Митя, — значит, все по слову тысяцкого делается. Ему виднее, говоришь! Конечно, стар и премудр Василий Васильевич.
— Стар, это само собой. Есть бояре и старее его, а вровень с ним ни одному не стоять, ибо тысяцкий над всеми полками московскими воевода. Его батюшка твой, князь Иван, всегда слушал. Тебе тож пристало — так от старины ведется.
— Так уж и от старины? Вон великий князь Семен мало кого слушал.
— За это дядюшку твоего бояре и прозвали Гордым. Нешто хорошо? Подожди, Митя, придет время — не с Мишкой Бренком, но со мной совет держать будешь.
Митя посмотрел на Бренка, потиравшего ушибленное плечо, вздохнул: «Плохо ли мы с Мишкой толковали, так нет же, принес черт Ваньку. Осмелел пес, говорит такое, что и слушать обидно». Дрогнувшим голосом начал было:
— Что ты смеешься, дьявол… — Замолк, шмыгнул носом.
«И заплакать–то нельзя — князь». Украдкой смахнул набежавшую слезинку, продолжал строго:
— Нашел время для потехи… — И только сейчас догадался, чем Ваньку пронять, лишнего не сказав. Обратясь к Мише, изрек важно:
— Боярин Бренко Михайло Андреевич, пойдешь со мной в думу, совет держать.
У самых дверей новоявленный боярин чуть поотстал от князя, оглянулся и шепнул Ивану то, чего не хотел раньше времени говорить Дмитрий:
— Не жди, Ваня, что будет с тобой Дмитрий Иванович совет держать. Не жди! Не бывать тебе тысяцким!
— Не бреши, Мишка, — крикнул Иван, — кому же после отца тысяцким быть? Чин сей в нашем роду — Вельяминовых!
— А никому! Василия Васильевича Митя терпит, а после тысяцких на Москве не будет. Митя намедни про то говорил.
С торжествующей рожицей Миша показал Ивану кукиш, и, не заметив, как мертвенно побледнел Вельяминов, он повернулся к нему спиной и, приосанясь, вошел в думную палату.
Блям–блям–блям… — монотонно бренчат колокольчики. Мерно качая головами, засыпанные пылью тысячеверстного пути, проходят верблюд за верблюдом. Полынная тоска солончаковых степей затаилась в глазах у них, и она же надрывно звенит бронзовыми языками колокольцев — блям–блям–блям…
А может, это лишь чудится? Вглядеться, так ничего и нет в равнодушных серых мордах верблюдов, что им за дело до встречного всадника, что им до тоски его?
С трудом пробивается конь князя Андрея Костянтиновича через толпу. Татары, кыпчаки [82] — медный загар лиц, гортанный говор. Изредка в пестроте ярких халатов — белый бурнус араба, пронзительный, черный взгляд и тут же бесстрастное желтое лицо китайца, и наши тут, косматые, оборванные — рабы. Сарай–Берке! То ли Вавилон нечестивый, то ли просто толчея базарная. Пожалуй, много чести будет Вавилоном его звать, но, правда, многоязычен он, в шуме этого пестрого базара каких языков не услышишь, и все они сливаются в один ровный гул, точно мухи гудят. Мух и на самом деле тучи, облепили снедь в лавках, лезут в ноздри и в очи коню, садятся на потное лицо. Князь Андрей то и дело смахивает их. А они лезут вновь. И так же назойливо, по–мушиному лезут в голову мысли, только не смахнешь их нетерпеливо.