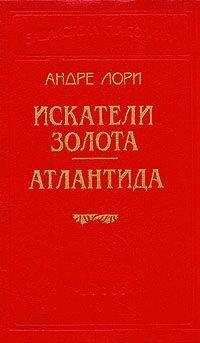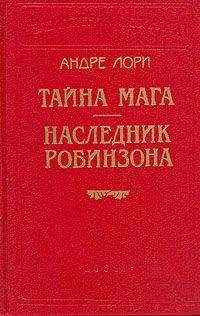Между тем мы выбрались наконец из этого лабиринта улиц и закоулков, в котором мы столько времени блуждали, и вышли на обширное, ровное, открытое пространство, где хижины стояли в известном порядке, хотя и далеко друг от друга, притом имели несравненно более благообразный вид и были оттенены рощицами пихт, дубов и магнолий, наполнявших воздух своим тонким ароматом. Каждый из этих домиков имел свой садик с ручейком или водяным бассейном, получающим воду для соседних bayou. Здесь не было видно жалких лохмотьев, и окна все почти были заперты ставнями или занавешены циновками. Многие домики украшались растениями: диким виноградом, жасмином и тому подобным. Словом, это была разительная противоположность тому шумному отвратительному кварталу, через который мы только что проходили.
Судя по какой-то смутной аналогии между этим тихим, скромным и порядочным предместьем и той тихой, скромной и порядочной женщиной, которая служила нам проводницей, я предполагал, что мы теперь уже близко к цели нашего странствования.
Я не ошибся. Действительно, Клерсина, как звали скромную, степенную негритянку, остановилась наконец у живой изгороди, тщательно подстриженной, и отворила маленькую резную деревянную калиточку, к которой был приделан бубенчик вместо звонка. Следя за ней, мы прошли прекрасно содержанным садиком к небольшому белому домику, находившемуся в самой глубине его и как бы прячущемуся в густой зелени сада. На пороге дома, перед плотно затворенной дверью, сидел старый негр. Мне сразу бросились в глаза его пушистые, точно всклокоченная белая шерсть, волосы и большой шерстяной платок, накинутый на плечи, как у старой женщины. Он сидел и вязал детский чулочек. При виде
Клерсины он медленно поднялся со своего места и, когда она поравнялась с ним, сказал ей вполголоса:
— Купидон просидел здесь все время! Теперь Купидон пойдет спать…
— Да, да, спасибо тебе, друг мой Купидон! — ласково отвечала негритянка, приветливо кивнув головой старику.
Мы остановились на большой дороге; старик прошел мимо нас и вскоре скрылся в тени соседних садов. Что же касается Клерсины, то она, отворив дверь и оставив ее полуоткрытой, проворно зажгла медную лампу от углей, еще тлевших в очаге.
Я и теперь не могу забыть того впечатления, какое произвела на меня эта Клерсина, когда я впервые увидел ее при свете и настолько близко, что мог разглядеть ее вполне. Не только совершеннейший тип африканской красавицы невольно вызывал восхищение, но еще, кроме того, достаточно было только взглянуть на эту женщину, чтобы разом понять и почувствовать, что находишься в присутствии личности, стоящей выше обыкновенного уровня людей, как по своим душевным качествам, так и по своему уму и развитию. Тетя Клерсина, как мне вскоре пришлось научиться называть ее, была высокая, рослая, могучего сложения женщина, напоминавшая прекрасную черную мраморную кариатиду. Черный блестящий цвет ее кожи, красивые, точно выточенные из кости руки и плечи, благородство ее жестов и движений, ее прекрасно поставленная голова напоминали какое-то нубийское божество, таившее в своих выразительных черных агатовых глазах невыразимую глубину тихой грусти. Кроме того, в этих глазах читалась бесконечная доброта, неразлучная с какой-то безысходной скорбью. Несмотря на типичный африканский характер ее губ, быть может, слишком пышных и алых, эти губы ее имели что-то такое, что дышало и благородством, и энергией. Когда она улыбалась, то все лицо ее разом освещалось каким-то внутренним светом; два ряда ослепительно белых и ровных зубов оживляли тогда ее лицо и придавали ей особую, характерную прелесть. Даже сами ее волосы были иные, чем у остальных ее единоплеменниц: они были иссиня-черные, вьющиеся мелкими ровными завитками, короткие и блестящие, как лучшая мерлушка. Она сознавала свою красоту и любила принарядиться. Голова ее была повязана желтым мадрасским платком, так что повязка эта напоминала род высокого колпака или кички с искусно и кокетливо скрученными концами. Светлое ситцевое платье с лиловыми горошками отличалось безупречной чистотой, а красный шерстяной платок, сложенный косынкой и повязанный на плечи, особенно красиво оттенял черный цвет ее кожи и красивый контур ее плеч и груди. Ни один человек не мог бы при взгляде на нее не сознаться, каким явным предрассудком является признание красоты исключительной привилегией одной белой расы.
Вы улыбаетесь моему энтузиазму? Да, но за всю свою жизнь я не встречал более совершенного типа, чем Клерсина, совершенного не только по своим необычным физическим, но и по высоким нравственным качествам. И это существо была раба, невольница!… У нее в доме можно было думать, что находишься во Франции, в какой-нибудь хижинке доброго старого времени. Громадный широкий камин занимал одну сторону комнаты, куда мы вошли из сада; подле камина стояла большая кровать с колонками и красным кумачовым пологом, у противоположной стены стояла другая точно такая же кровать, и с такими же занавесями, как и первая. Большие старые стенные часы, монументальный ореховый платяной шкаф, чисто вымытый белый, некрашеный стол и несколько плетеных соломенных стульев довершали обстановку этой комнаты, служившей одновременно и кухней, и спальней. Все здесь было чисто, все блестело и носило какой-то особый веселый характер.
Тщательно заперев за нами входную дверь, Клерсина стала внимательно вглядываться в моего отца; затем лицо ее озарилось широкой ласковой улыбкой, и она сказала:
— Вы — масса Жордас?
— Да! — лаконично ответил отец.
— А это кто? — спросила она, указывая на меня.
— Это — мой сын, Нарцисс Жордас!
— Ну, в таком случае все обстоит благополучно! — воскликнула она со свойственной ее расе живостью, и в порыве живейшей, непритворной радости схватила руку отца и принялась покрывать ее страстными поцелуями, затем овладела также и моей рукой и стала целовать ее. Я сконфузился и чувствовал себя крайне неловко, а она между тем, подняв на меня свои большие черные глаза, призывала на мою голову благословление небес, после того обратилась опять к отцу.
— Я — Клерсина!… кормилица Розетты! — добавила она в виде пояснения.
Мне лично это объяснение не сказало ровно ничего; что же касается моего отца, то он по-прежнему молчал и ждал, что будет дальше.
Тогда Клерсина взяла его за руку, подвела к одной из двух больших кроватей и отдернула полог. Я подошел сзади их и увидел прелестного маленького мальчика лет восьми или девяти, не более, который спал, красиво раскинувшись на белоснежных подушках.
Ребенок этот представлял собою образец самого красивого, самого изящного типа белой расы. Его длинные вьющиеся волосы рассыпались по подушке шелковистыми золотистыми прядями. Тонкие черты личика были теперь уже вполне определившиеся и свидетельствовали о твердой воле и природной энергии. Прекрасного рисунка губы придавали детскому ротику даже и во время сна выражение благородной гордости. Цвет лица, хотя и слегка загорелого, тем не менее напоминал цвет лепестка нежной, бледной розы.